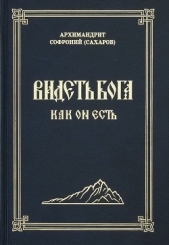Это мы, Господи, пред Тобою

Это мы, Господи, пред Тобою читать книгу онлайн
Воспоминания о репатриации казаков из Австрии в июне 1945 года, о лагере в Сибири. Автор — активная участница и одна из организаторов невооружённого сопротивления казаков против их насильственной выдачи англичанами в руки советских властей.
Евгения Борисовна Польская (в девичестве Меркулова) родилась в г. Ставрополе 21 апреля 1910 г. в семье терских казаков. Ее муж Леонид Николаевич Польский (1907 г.р.) был сыном Ставропольского священника Николая Дмитриевича Польского. В 1942 г. после немецкой оккупации супруги Польские в числе многих тысяч казачьих семей уходили на запад. В 1945 г. были насильно «репатриированы» обратно в СССР, как власовцы. И хотя в боевых действиях против «союзников» они не участвовали, Евгения Борисовна получила 7 лет лагерей, ее муж — 10. К концу жизни ею были написаны воспоминания «Это мы, Господи, пред Тобою…», в которых она описывает послевоенную трагедию казачества, а вместе с ним и всего русского народа, всей России… Скончалась Евгения Польская 18 января 1997 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Итак, Кюхе и Кинд были у Эгнес на первом плане, Кляйдунг в весьма женственных, но не чрезмерных формах. Кирхе — тоже имела место, но, как у женщины современной, не до исступления, что случалось во время войны у верующих русских женщин. Горячо молилась она Богу за мужа. Остальное было — формальность. Раз в неделю, а то и реже, обрядив себя в черный кляйд, а мальчика в щегольской костюмчик с галстуком-бантом, она отправлялась в церковь. Во время алярмов осеняла себя, его, а потом и меня крестом. Кирхе нужна была еще для организации так называемой «зимней помощи»: изготовления или сбора теплых вещей для фронта и для потерявших имущество в бомбежках. В «Зимней помощи» Эгнес даже занимала какой-то пост.
Война рычала вокруг. Апокалиптическое зрелище разрушаемого Берлина сокрушало нервы. Ночами над столицей горели гирлянды ракет, в их свете клубились черные дымы. В Потсдамских убежищах стучал метроном, радио сообщало местоположение вражеских самолетов: «uber…uber…uber…». [33] Все понимали: в этот миг погибают невинные люди. В Потсдамских бункерах немки тихо вязали, переговариваясь: «пэнхен», «айер», «буттер» … [34] Шуршала за досчатой обшивкой обсыпающаяся земля. Всех беспокоило соседство военной офицерской школы, но никто не верил, что город-музей будут бомбить. Однако отдельные самолеты прорывались и на этом участке. И тогда мигали лампочки, матери прижимали детей и где-то близко рычала земля, люди шарахались в глубину бункера, и только кто пережил, знает, какой теплой волной заливало сердце при отбое. При мне разрушений в Потсдаме не было, я не видела, но после отъезда его все-таки бомбили. Зато пережила настоящий ад, уже попав в дневную бомбежку Берлина, и из под арки виадука видела, как, медленно разваливаясь пластами, так казалось издали, падали стены многоэтажных зданий.
…Отыскала ли бы я теперь очаровательный домик Эгнес? В нем среди громов и молний войны, тоске и отчаянии разлук и изгнаний я нашла на нашем нелегком пути в патриархальной тишине немудрый жизни уют и отдых, хотя и недолгий. Среди ненависти и битв, злобы и предательства нашла простое человеческое сердце немецкой горожанки Эгнес.
Спустя месяц-полтора, получив от мужа письмо, она сообщила мне, довольная, что муж меня приветствует. Четким готическим шрифтом был написан «сердечный привет милой даме, тебе помогающей. Я рад и за тебя и за нее». Эгнес смеялась: «Я ему дала понять, что вы русская. Но вы заметили, он не написал «русской даме». И вздохнула: «Цензура! Мы не должны вас хвалить! О, Готт!»
А вот сын!.. Впитавший с молоком прусский патриархальный уклад он шаркал вежливо ножкой, чинно и правильно вел себя в общественных местах и за столом — за этим мать следила особенно, но рос человеком совершенно новым. С детским ригоризмом он прямолинейно воспринимал шовинистические догматы фашизма. В школе, в гитлрюгенде, среди товарищей, в детских книгах. Мать, замечая это, тревожилась.
Разговоры с сыном всегда велись в полутонах, даже если она его бранила или награждала пощечиной.
Пощечина у немцев — обычный вид наказания, даже у взрослых, в школах учителя давали их направо и налево, об этом без смущения рассказывал Эрни: «Я сегодня получил пощечину» — звучало, как «получил двойку». Если балл был удовлетворительным, мать молчала, если плохой, еще добавляла плюху. Без особых эмоций! Даже угрозу: «Я тебя высеку» — она произносила спокойно.
Главным орудием воспитания служил авторитет отсутствующего отца, в представлении маленького немчика окруженного ореолом легендарного германского героизма. «Папа сражается за родину, а ты…», «Ах, что скажет папа, когда увидит, как ты держишь вилку…», «Папа задрожит на фронте от холода, если ты не наденешь пальто…» И ребенок беспрекословно подчинялся нотации в такой форме.
Он ходил на сборы гитлерюгенда, хотя мать его туда неохотно отпускала, но очень уж ему самому хотелось! Он надевал белую рубашку с коричневым галстуком, заправленным в кольцо. Точно такое, как у наших пионеров, только вместо костра была свастика, да и салют был иной — рука, выброшенная вперед. Такие же, как и у нас, барабаны, и шествия. Да вместо «бей буржуев» кричали «бей евреев!» Я все думала, кто у кого заимствовал все эти формы, видимо, они у нас, так как германский фашизм моложе советского. Юный Эрни попал под двойной пресс: нового влияния с бесчеловечными принципами расового господства, элитного антисемитизма и гуманных привычек патриархальной семьи. Все это сказалось в отношении ко мне.
Впервые с детским шовинизмом я столкнулась в деревне под Берлином. Группа мальчишек-подростков, которые есть в любых странах (мальчишки повсюду удивительно одинаковы), зная, что я из русского лагеря, начали плясать вокруг с дикими криками: «Каташка, Каташка!» — так испорченным словом Катюша (из проникшей в Германию нашей песни о Катюше) называли русских девчат. Я сказала что-то вроде «Ах, как невоспитанны немецкие дети!», и тогда они стали бросать в меня довольно крупными камнями. Пример отцов, в драках, создававших свою «новую Германию» был воспринят и юным ее поколением прямолинейно.
(Позднее похожая история повторилась в Сибири, когда детей из ПФЛ, посланных было в школу, сибирчата тоже били камнями). Чувство именно такого «кулачного патриотизма» уже было воспитано и у Эрни. И проявлял он его за спиной матери. Сперва, не зная, кто я, шаркнул ножкой и подставил щеку для поцелуя, но узнав все, начал грубить, говорить «ты» глядеть исподлобья, шептать «Катушка», особенно в дни наиболее неблагоприятных известий с фронта.
Мать, однако, пыталась, не разрушая героический «германский дух», соединить его с гуманностью общечеловеческой, полагая справедливо: «не будет же это продолжаться вечно».
В семье существовал ритуал отхождения ребенка ко сну. В ночной длинной рубашечке мальчик с матерью отправлялся в «нишу». Начинается молитва перед распятием. Сложив ладошки, коленопреклоненный, он просит сперва, чтоб немецкий Бог сохранил его фатти. Потом за — родину, Gott mit uns [35] заканчивается молитва. Но мать всегда напоминает, чтоб добавил: «И со всеми людьми на Земле, пусть будет мир». Укутав ребенка, Эгнес садится на край кроватки и требует покаяния во всех дурных делах, совершенных им за день. Лежа в кабинете, я невольно слышу диалог:
— Мутти, я еще птичку в саду камнем напугал…
— А еще, еще? — добивается мать, видимо что-то заметившая днем. Нехорошее.
Недовольный ропот, сопение и, наконец, признание:
— Фрау Эугении погрозил кулаком…
— Зачем же, дорогой?! Ведь ты сам мне недавно сказал, что она хорошая…
… — Она русская! Русские могут папу убить! Русские бомбят Германию!
— Но ведь то солдаты, на войне, а фрау не солдат. Да еще несчастный человек, потерявший Родину. Представь на минутку, что нам с тобою пришлось бы потерять свою…
— У нее плохая Родина. Шайзе — Хаймат (г… — родина).
— Не смей говорить грубые уличные слова! (звук пощечины). Каждому человеку его Родина священна, даже если она плохая!
Слышу, мальчик всхлипывает, куксится (после пощечины).
Мать снижает тон:
— Ты же видишь, фрау такая хорошая, воспитанная, образованная, так много знает…
— Больше, чем наша училка, мутти?
— Я думаю, больше!
— А почему она не уезжает в Россию?
— Потому, что война, она убежала от коммунистов…
— Но они могут убить папу!
— Если будешь за него молиться и будешь добрым мальчиком, Бог его сохранит. Только, знай, надо быть добрым внутри, по-настоящему, а не только для вида…
— Я буду, мутти! — какое-то неразборчивое шептание, возня, и я слышу, к моему дивану притопали детские ножки в пантуфельках. Вкрадчивое движение у подушки. Теплое детское дыхание… Он убегает, под подушкой я нащупываю конфету. Это подарок. Сюрприз.
Во время военных трудностей немцы дарили скупо. На первых порах казалась оскорбительной их манера дарить: например, предлагают сигарету не из пачки, конфет не из коробки, а вынув одну. На лице появляется торжественное: «Я дарю Вам!» Так было и среди хорошо воспитанных людей. Наш немецкий начальник до войны долго работал в посольстве в Москве, знал наши русские «светские» привычки, однако, угощая конфетами, вынимал из коробки одну и давал, как ребенку. Я возмутилась открыто: неужели он полагает, что я возьму целую горсть? Оказывается — это обычная немецкая манера — каждому вручалась его «порция». В Европе я поняла, что там называют «широкой русской натурой». Даже в сталинских лагерях во время голода и скудости папиросами угощали, открывая всю коробку (за что порою и наказаны были: одаряемый брал горстью).