Невидимый град
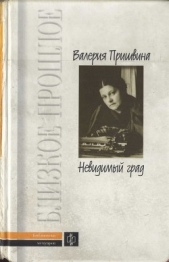
Невидимый град читать книгу онлайн
Книга воспоминаний В. Д. Пришвиной — это прежде всего история становления незаурядной, яркой, трепетной души, напряженнейшей жизни, в которой многокрасочно отразилось противоречивое время. Жизнь женщины, рожденной в конце XIX века, вместила в себя революции, войны, разруху, гибель близких, встречи с интереснейшими людьми — философами И. А. Ильиным, Н. А. Бердяевым, сестрой поэта Л. В. Маяковской, пианисткой М. В. Юдиной, поэтом Н. А. Клюевым, имяславцем М. А. Новоселовым, толстовцем В. Г. Чертковым и многими, многими другими. В ней всему было место: поискам Бога, стремлению уйти от мира и деятельному участию в налаживании новой жизни; наконец, было в ней не обманувшее ожидание великой любви — обетование Невидимого града, где вовек пребывают души любящих.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И все-таки мне удалось вырваться на несколько дней к Олегу. Он встретил меня на сочинском вокзале, без улыбки, с провалившимися глазами на оливково-бледном лице. Он молча взял мой чемодан, и мы пошли на Змейку, раньше пригородными садами, потом узкой тропой между зарослями. Мы изредка перебрасывались короткими, ничего не значащими словами — слова сейчас были не нужны.
К вечеру мы сидели уже на поляне возле недостроенного дома, в котором забраны были две стены, но не было ни пола, ни потолка. Олег сделал под крышей временный настил и спал на нем, так как на участок ночью забегали звери и заползали змеи. Там провели мы с Олегом под звездами эту августовскую ночь.
Я видела в прошлом Олега огорченным, измученным, гневным, но духовно-расстроенным и ослабевшим видела впервые. Не помню, о чем мы говорили и как, но заснули мы, наконец, примиренные, проснулись спокойные и счастливые. Знакомая прочная и чистая радость вновь осеняла нас.
Олег был до крайности истощен, и я видела, как он вновь приучался есть и спать, как на глазах у меня поднимались его силы.
И еще прошла такая же ночь под звездами. Днем, когда мы готовили на костре традиционную «супо-кашу», так называли мы свою нехитрую еду, варившуюся сразу на сутки, мы увидали, что по дорожке, спускающейся на поляну со стороны гор, сбегают вниз знакомые фигуры с дорожными палками в руках и заплечными мешками. Это были о. Даниил, Боря и Сережа, спешившие с Красной Поляны, — они были извещены Олегом о моем приезде.
Правда, их ожидало на побережье еще одно дело, поважней, о чем Олег мне расскажет сам в следующем своем письме — уже в Москву. А пока происходило радостное свидание с друзьями.
Дня через два после моего приезда на Змейку, когда Олег зачем-то отлучился к соседям, а я осталась одна на хозяйстве и шла от соседнего источника с двумя полными ведрами на коромысле, я увидала у нашей хатки человека городского вида, в восточной тюбетейке со старомодной бородкой и с очень русским лицом. Он представился Константином Сергеевичем Родионовым и сказал, что пришел познакомиться, услышав об Олеге еще в Москве. Сейчас он шел с долины Псху, что под двумя цепями гор, где был у старцев в Глубокой.
Он-то и был первым, кто рассказал мне, что старцы на Псху обсуждали выступление в центральных газетах нового заместителя патриаршего местоблюстителя епископа Сергия. Я почти никогда не читала газет, убежденная, что все необходимое услышу от людей, которые их читают, и теперь тоже еще ничего не знала. Константин Сергеевич рассказал, что епископ Сергий провозгласил единство Церкви с советской властью, признавая эту власть народной, народом принятой и потому обязательной и для Церкви, которая никогда не боролась с государственной властью и имела свои, чисто духовные, независимые от мирской жизни цели. Константин Сергеевич по памяти процитировал: «Несть власти, аще не от Бога», и потому «ваши радости — наши радости и ваши печали — наши печали».
Сколько раз потом по-разному и разные люди повторяли друг другу эти слова из статьи — споря, не соглашаясь, страдая и соглашаясь, сколько раз потом я слышала их в Москве.
— А как отнеслись к этому старцы? — спросила я.
Константин Сергеевич говорил, что старцы приняли выступление послушно, хотя и настороженно. Вспоминали, когда в истории Церкви бывали выступления святых людей против некоторых действий светской власти, в случаях, когда она явно нарушала закон Христов. Вспоминали выступление митрополита Филиппа против жестокостей Иоанна Грозного, Нила Сорского против жестокостей в борьбе с еретиками при Иоанне III. Но общее мнение старцев на Псху было таково, что выступления Церкви возможны лишь против отдельных заблуждающихся или преступных личностей и их действий, но не против исторически складывающихся государственных формаций — старцы еще раз подтвердили, что Церковь никогда не становилась и не должна становиться на путь борьбы с государственной властью. Насколько мы знали то, что происходило все это время в столице, патриарх Тихон, не выступая против власти, боролся как раз с отдельными постановлениями, пытаясь отстоять достоинство Церкви в новом атеистическом государстве. Но на официальное признание новой власти ни он, ни его последователи не пошли и были за прошедшие годы все так или иначе уничтожены.
Вместе с о. Даниилом мы обсудили церковные новости и присоединились к мнению старцев с Псху. Кто-то, помню, говорил, что Сергий, известный не столько своей духовной настроенностью, сколько ученостью и административным опытом, делает дипломатический шаг с целью оградить церковных людей от политических преследований и дать им мирно жить в новой обстановке атеистического государства. Но чувство тревоги поселилось в душе, было непонятно, каких последствий можно теперь ждать.
Я вспоминала про себя давний спор двух студентов — Александра Васильевича и Абрамова в начале революции и слова одного из них: «Но что если Церковь вновь соединится с государством? Тогда она потеряет силу». Слова эти звучали теперь в моей памяти как вопрос, так как спор Иосифа Волоколамского и Нила Сорского на Руси продолжался и поныне. Митрополит Сергий своим выступлением покупал мир для Церкви, какой ценой — никто не знал.
Константин Сергеевич Родионов оказался, после взаимных припоминаний, одним из слушателей лекций Бердяева в Олсуфьевском особняке, мы помнили лица друг друга и не знали имен. Он же был и родным братом того самого Николая Сергеевича Родионова, который запомнился мне своим светлым лицом на собрании толстовцев в Газетном переулке. Константин Сергеевич через день уехал, но с тех пор стал постоянным спутником моей жизни, часто пропадая куда-то на долгий срок и снова неожиданно появляясь.
Через несколько дней и мы с Сережей уехали: я в Москву, он в Майкоп, все провожали нас до Сочи под проливным дождем, мы были веселы и полны надежды.
В Москве я получила от Олега письмо.
«12 сентября 1927 г.
Ляля, радость моя и оправдание мое — совершилось! 28 августа ст. ст. в канун праздника Усекновения Главы св. Иоанна Предтечи, в 8 ч. утра о. Н. постриг недостойного брата твоего и нарек то имя, которое было задумано.
Я, конечно, не ожидал никаких утешений, никаких перемен особых, потому что ведь для меня не может быть чуда (помнишь, как ты говорила, советуя мне заботиться о себе: „Еще для Сережи может быть чудо, а для тебя нет“), А утешение я все-таки получил, если не прямо от Бога, то от человеков. То есть, прежде всего, от Бога (о чем напишу, как о более важном, дальше), а сначала от человеков. Какая-то ясная грань провелась еще раз в жизни, но в том смысле, что легла печать достоверности на то, к чему мы вместе пришли. И извне, и изнутри.
Прежде скажу про самый постриг. На мягкое сердце больше всего впечатления должно бы произвести начало, когда постригаемый идет к алтарю, несчастный и растерзанный в одной длинной рубахе, останавливается и падает на землю трижды, а старец ведет его, простирая над ним руку и покрывая его своей мантией. В это время поют тропарь „объятья отча“. Все это и значит „подводить“. Это, конечно, очень сильно и похоже на Василия Великого, составителя сего чина. Только здесь, если бы не подлинные переживания, символика граничите внешним эффектом. Говорю это, как бы смотря со стороны на постриг в монастыре по уставу, который слишком прекрасен внешне, и это меня немного пугает.
По счастью, мой постриг был лишен эффекта всего этого. Бедная церковка на кладбище, деловой человек — иеромонах, пели псаломщик, брат Николай да о. Арсений. Кое-как и кое-где раздобытая одежда и в добавление ко всему — яркий день. Так что все внешнее было устранено, осталось чистое таинство; и все как внешнее, так и „внутренне-внешнее“ в его действии тоже было устранено. Совершилось лишь словно некое утверждение обновленного существа — устранились тревоги, сомнения, столь знакомая тебе неуверенность, и стало как-то совсем не страшно и все ясно.
Неожиданным подарком были два разговора — с о. Даниилом и с той молодой схимницей, которой так восхищались отцы. Она сегодня уезжает. Даниил с увлечением начертывал картины иноческого жития последних времен. Осуждал старое иночество за презрение к умственной культуре… „Некоторые даже святые отцы писали, что монаху нужно только одно — покаяние: Господи спаси, да Господи помилуй. А я, может быть, даже соблазняюсь этим, погрешаю против них, считаю, что они ошибались. Это в древности монахи жили себе за святыми стенами или под святыми полами. Вот им тогда и не нужно было ничего, кроме молитвы и трудов“ и т. д.
А с Серафимой так. В промежутке между утреней и обедней я искал места отдохнуть в тени. Обошел церковь, смотрю — у восточной стороны, прислонясь к алтарной стене, сидит она. Пригласила сесть. Стали толковать об иночестве. Я ее расспрашивал. Весь разговор поучителен, но опишу потом, так как долго. Скажу лишь, что, по ее мнению, монашество теперь будет в значительной степени в миру и не нужно бояться, находясь в мирской обстановке, тайного приятия пострига, только готовиться при этом к искушениям и т. д.
Теперь самое главное, из-за чего и письмо сел писать. Трудно писать об этом в пути, но когда вернусь домой, то сразу отправлю письмо. Поэтому постараюсь хоть как-нибудь написать здесь.
После твоего отъезда у меня начались суточные смены настроений. Ночью находили волны ужаса о том, как страшна эта медлительность Божья, проявляющаяся в иных случаях; какие непосильные крайние испытания веры дает Он именно людям последних времен. Какой огромной веры Он требует. Что перед этим двигать горами, если мог попускать такие скорби тебе, то чувство мучительного недоумения, которое делает невозможным никакую теодицею, кроме безусловного доверия Христу-Спасителю человека. Собственно, слова ничего не выразят. Но они мучили (только этим — ни одной мысли против тебя не было). А днем вдруг все это исчезало и сменялось то радостью, то чувством какой-то утвержденности, спокойствия и временами некий „страх высоты“ — то чувство, какое бывает в горах, когда заберешься высоко-высоко на шпиль и под скалой внизу раскидывается картина целой страны, — страх превознесенности. Словно какой-то силой мы были поднимаемы на гору скорее, чем успевали освоиться с высотой. Такое чувство испытывает ученый, когда его поспешно ведут в глубину науки, не задерживаясь для отдыха и освоения с открытием.
Потом перед постригом произошел перелом — я подумал, что ведь Господь всегда праведен в путях своих и не „оправдится“ перед Ним тот, кто выйдет в суд с Ним. Думал о том, почему Господь не устроил так, чтобы мы встретились раньше. Тогда моя жизнь была бы, может быть, не такой, какой была, может быть, и твоя тоже. Но если бы и так, то тогда Сам Господь остался бы в стороне, и любовь при всей ее ясности основана была бы не „на камени“. Очевидно, нужно было, как и ты мне писала, тебе отречься окончательно от себя и от всякой надежды на человеков и возлюбить единого Господа, и мне тоже увидеть, что сам я пуст и неоткуда искать мне помощи и богатства, как только от Христа.
И вот тогда-то, тут уже немедленно, Господь устремился ко спасению каждого из нас и поспешил с нашей встречей. Я даже испугался при мысли, что было бы, если б я встретил тебя раньше. Я думаю, что, если бы явилась любовь, она была бы очень чиста, так как ты к иной не способна, и мне другого не попустил бы может быть Господь.
Пишу это все, хотя знаю, что тебе неприятно и противоречит моему обещанию вычеркнуть призраки из памяти. Поэтому заранее прошу прощения, может быть, лучше не писал бы, но подумал, что тебе приятнее, чтобы я писал все. Оправдывает меня конец — постриг. Он вдруг все отрезал, и я понял, что призраки просто никогда не существовали и не являются ныне даже недоразумением.
После пострига сидели возле церкви с Даниилом и Митрофаном. (Он присутствовал и пролил море слез. Заявил, что ему легче было бы постричь все 150 миллионов в России, чем меня одного.)
Да, я узнал, что пострижение есть именно таинство, а не обряд принятия определенного исторически сложившегося пути жизни — действительно таинство, в коем „Отец блудного сына лобзает и паки познание своей славы дарует, обнищавшее сердце целует“. Потому что оно дает уверенность в пути и освещает лучом Христовым как достоверное то, в чем сомневался. И это достоверное не совпадает с буквой уставов общежития последних столетий. Так что постриг — усвоение Христу, а не киновийному уставу.
Будь радостна, радость моя. Напиши мне. Прости, если по глупости чем-нибудь причинил боль. Господь с тобой. Л.»


























