Невидимый град
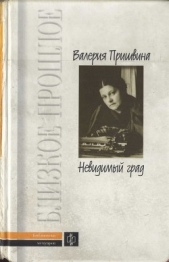
Невидимый град читать книгу онлайн
Книга воспоминаний В. Д. Пришвиной — это прежде всего история становления незаурядной, яркой, трепетной души, напряженнейшей жизни, в которой многокрасочно отразилось противоречивое время. Жизнь женщины, рожденной в конце XIX века, вместила в себя революции, войны, разруху, гибель близких, встречи с интереснейшими людьми — философами И. А. Ильиным, Н. А. Бердяевым, сестрой поэта Л. В. Маяковской, пианисткой М. В. Юдиной, поэтом Н. А. Клюевым, имяславцем М. А. Новоселовым, толстовцем В. Г. Чертковым и многими, многими другими. В ней всему было место: поискам Бога, стремлению уйти от мира и деятельному участию в налаживании новой жизни; наконец, было в ней не обманувшее ожидание великой любви — обетование Невидимого града, где вовек пребывают души любящих.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Получив телеграмму, я бросилась к его сестре. Незнакомый человек открыл мне дверь. Не поздоровавшись, я пролетела мимо него в столовую, откуда слышались голоса. Надежда Николаевна сидела красная, заплаканная, судорожно комкая в руках носовой платок в окружении нескольких ближайших товарищей Николая Николаевича по работе. Они что-то горячо обсуждали, и все замолчали, как по команде, лишь только я появилась в дверях. Они смотрели на меня настороженно, и я остановилась в недоумении. Все встали, почтительно откланялись, стали подвигать мне кресло, Надежда Николаевна ласково, слишком ласково меня обняла. Оказалось, моя мать прислала одновременно и ей телеграмму. Я чувствовала, что нахожусь среди чужих людей, но была настолько поражена случившимся, что все проходило мимо меня, не задевая сознания. За мной ухаживали, кто-то деликатно напомнил, что я — вдова, что на похоронах должна быть в трауре.
Гроб пришел запаянный. Его так и не вскрыли, и похоронили Николая Николаевича рядом с матерью его на Ваганьковском кладбище. Это был конец. Теперь я покорно выполняла все, что ласково, но настойчиво требовала — нет! — просила у меня Надежда Николаевна. Странная ласковость и почтительность окружающих скоро разъяснилась: я оказалась единственной законной наследницей всего имущества Николая Николаевича, его авторского права на книги, на патенты изобретений на родине и во многих странах мира. Это было целое богатство, неожиданно свалившееся на меня. И они, эти люди, окружавшие Надежду Николаевну, и сама она меня боялись. Откуда им было знать в эти минуты, что я сужу себя еще строже и беспощаднее…
Я немедленно подписала то, что было нужно: отказ от своих прав в пользу сестры покойного. Я видела их удивление, видела нескрываемую радость Надежды Николаевны, но холода вокруг меня не убавилось. Я не виню Надежду Николаевну, достаточно и того, что она ничем не укорила меня за брата. Больше мы с ней не встречались.
Товарищи Николая Николаевича, свидетели моего добровольного отказа от своих прав, начали было хлопотать о пенсии для меня: в бумагах покойного нашлось специально оставленное им письмо с настойчивой просьбой об этом. Да и при жизни он не раз мне об этом «на случай» напоминал. Но я не чувствовала себя вправе ее получать, хотя пенсия развязала бы мне все узлы, может быть, открыла бы дорогу в горы, дала бы покой за мать. Посоветовавшись с о. Романом, я снова поступила вопреки его совету и прекратила начавшиеся было хлопоты — так было спокойнее для моей совести и правильнее.
На похоронах среди любопытно-безразличной толпы я увидела лишь одного человека: в почетном карауле стояла женщина с грубовато мужественным лицом, которая безутешно плакала, никого не замечая в своем горе. Это была Людмила Владимировна Маяковская. Потом она первая подошла ко мне и крепко пожала руку.
Мы встречались с нею после того много раз. Она тянулась ко мне, как к самому близкому, что осталось на земле от любимого ею человека, она сурово и откровенно рассказала мне о своей неразделенной любви и преклонении перед Николаем Николаевичем, я отвечала ей той же откровенностью. Людмила Владимировна делала трудные для себя попытки сблизиться со мной, но понять совершенно чужой для нее мир не могла. Однако ее любовь, перенесенная каким-то отсветом на меня, была столь щедра, что она не обращала внимания на эту разность. Я же продолжала из благодарности бывать в семье Маяковских: мне нравилась какая-то старомодно-добротная порядочность этих людей — матери и двух сестер, их взаимная любовь, обожание брата. Из их рассказов я сделала свои молчаливые выводы, что Владимир Владимирович был человеком страдающего и очень нежного сердца. Внешнее поведение, в котором его укоряли, было юношеской бравадой. В то время много раз мне представлялась возможность познакомиться с ним, но я верным инстинктом знала, что ничего из этого знакомства не получится: я чувствовала себя для этой встречи слабой и незрелой.
Мне казалось, что в доме Маяковских царили одновременно и честность и мертвенность, словно я попадала на кладбище духа. В семье, где родился великий поэт, «наступавший на горло собственной песне», действительно не было слышно никакой душевной музыки, и любовь Людмилы Владимировны, возможно, была единственным лучом поэзии в ее жизни. Я силилась — открывала нараспашку ей свою душу, но она не могла найти в нее вход, как слепая. Так и бродили мы друг возле друга в течение нескольких лет, пока новые непредвиденные события не развели нас — и не по нашей вине.
Во время похорон в толпе бывших студентов Института Слова я увидала и Александра Васильевича. Он почему-то не подошел ко мне. Да и самой мне было не до него. Возвращались с похорон мы с Шурой, не отходившей от меня в те дни. И вот она, всегда молчаливая и робкая, заговорила. Страшно стесняясь, она сказала, правда, лишь несколько слов и даже осеклась на полуфразе.
— Ляля, — сказала она, — ты не боишься, что Александр Васильевич? — и замолкла.
— Что с ним может тоже так случиться? — спросила я. Шура молча кивнула головой.
Вывело меня из нравственного потрясения мамино новое письмо: ее здоровье сразу рухнуло, и она слегла одна в чужом городе с обострением всех своих болезней, затихших было под влиянием постоянных гипнотических внушений Николая Николаевича. От маминого письма я очнулась и кинулась на вокзал покупать билет в Ессентуки.
Перед отъездом мне нужно было еще непременно повидать Михаила Александровича. Дело в том, что накануне он встретил меня на улице, когда я шла с кладбища, это был, по-видимому, девятый день смерти. Я была все в том же крепе и черном платье, которые от меня требовала Надежда Николаевна.
Михаил Александрович странно поглядел на мой траур, съежился, будто от холода, что-то пробормотал и быстро ушел от меня в переулок. Я ничего не поняла.
Жил он в то лето у друзей на станции Лобня под Москвою. Я нашла его лежащим в постели после ночного сердечного приступа.
— Зачем этот маскарад, — сказал он, показывая на мой креп. — Как будто мы тебя потеряли. Это не ты.
— Как можно! — воскликнула я. — Это ребячество с вашей стороны, вы должны понять все обстоятельства! — И я принялась рассказывать о своем долге перед Николаем Николаевичем, даже перед его сестрой; о его благородстве, страдании, заботе обо мне и моей матери. Но Михаил Александрович не сдавался: у него была своя твердая логика и своя правда.
— Мужчины не заслуживают жалости в своем отношении к женщине, которой они домогаются. Ты не должна была подчиняться этому чувству. Ты не знаешь мужчину: ему не нужна и даже неприятна твоя жалость, а чего стоила она тебе! Я боюсь за тебя, за твою душу.
«Не умрите от любезности» — вспомнила я его полушутку при первом знакомстве, но промолчала: у меня была тоже своя правда, и на этот раз наши «правды» не совпадали.
Мне пришлось заночевать у Михаила Александровича, и в ту самую ночь приснился мне удивительный сон, это был второй сон, за который Михаил Александрович опять назвал меня «сновидицей». Он отнесся к нему очень серьезно, и мы расстались, не в силах сбросить с себя о нем воспоминание. Я не берусь сейчас решать вопрос о значении снов, об их происхождении. Я расскажу лишь тот свой сон, ничего не изменив в его содержании.
Дверь отворилась, и вошел Михаил Александрович нарядный, торжественный. Он был в роскошной шубе с бобрами, в такой же высокой шапке, как древний боярин или патриарх. От него исходило сияние: это блестел свежий, еще нерастаявший снег, покрывавший обильно его голову и плечи. Снежинки, как россыпь алмазов, сверкали на темном меху. Михаил Александрович сбросил верхнюю одежду. Теперь на нем был подрясник и священническая епитрахиль. Не говоря ни слова, он жестом подозвал меня к себе. Я подошла и низко наклонила голову. Он положил на нее епитрахиль, и я почувствовала усилие его руки, которым он все ниже и ниже нагибал мою голову. Он меня повел, и я шла, накрытая епитрахилью, согнувшись и ничего не видя перед собой. Мне было очень трудно идти, но я ни о чем не спрашивала и терпела. Все совершалось в полном молчании. Наконец, я увидала, что мы подошли к престолу: антиминс, покрывавший его, был на уровне моей опущенной головы. По четырем его краям я видела зашитые в ткань частицы от останков святых мучеников. Они шли длинным сплошным рядом, подобно драгоценному орнаменту, по краям престола. Михаил Александрович, все не снимая епитрахили, нажатием руки заставлял меня прикладываться к этим мощам. Я медленно обошла весь четырехгранный плат, по очереди прикасаясь губами к останкам святого и, как я понимала, близкого мне человека. Так обошла я весь престол и остановилась. Рука, лежавшая на моей голове, поднялась вместе с епитрахилью. Я выпрямилась и стояла теперь перед Михаилом Александровичем, который смотрел на меня со спокойным и довольным лицом, и говорил мне: «А теперь, наконец-то, я буду заниматься тем, чего желал всю жизнь: творить непрестанную молитву».


























