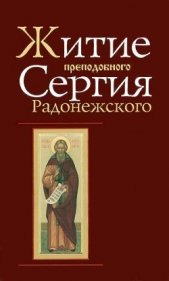Жизнь и судьба: Воспоминания

Жизнь и судьба: Воспоминания читать книгу онлайн
Вниманию читателей предлагаются воспоминания Азы Алибековны Тахо-Годи, человека необычной судьбы, известного ученого и педагога, филолога-классика, ученицы, спутницы жизни и хранительницы наследия выдающегося русского философа Алексея Федоровича Лосева. На страницах книги автор вспоминает о трагических поворотах своей жизни, о причудливых изгибах судьбы, приведших ее в дом к Алексею Федоровичу и Валентине Михайловне Лосевым, о встречах со многими замечательными людьми — собеседниками и единомышленниками Алексея Федоровича, видными учеными и мыслителями, в разное время прошедшими «Арбатскую академию» Лосева.
Автор искренне благодарит за неоценимую помощь при пересъемке редких документов и фотографий из старинных альбомов В. Л. ТРОИЦКОГО и Е. Б. ВИНОГРАДОВУ (Библиотека «Дом А. Ф. Лосева»)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ну и конечно, когда речь заходила об очень хитроумном человеке, Алексей Федорович неизменно подтверждал: «О, это настоящий кардинал Пачелли» (тот, который стал папой Пием XII, 1939–1957, и вел серьезную политику за независимость государства Ватикан).
Перечитывая записки, которыми мы обменивались с Мусенькой, поражаюсь, как она, бедная, бесконечно занятая работой, Алексеем Федоровичем, неустроенностью дома, своей теоретической механикой, заседаниями кафедры, походами в МГПИ с Алексеем Федоровичем, как она готовила обед, таскала сумку с продуктами, топила печь, закупала дрова, и никогда ни одной жалобы, только счастье, что все это не для себя, а для Алексея Федоровича. Вот почему, глядя на Валентину Михайловну, и я с пылом делала все, чтобы разделить ее труды. А как же без пыла — «я близ Кавказа рождена!» Иной раз и Алексей Федорович оставлял записку. Если я очень усердствовала с уборкой (ничего не могу поделать — порядок от мамы; помню древнего Гесиода: «В жизни порядок важнее всего, вредней беспорядок»), то он оставлял такую лаконичную записку (на обороте оглавления Ученых записок кафедры — их еще только готовили, значит, 1952 год): «По возможности не нарушай порядка». Или еще: «За мной не приходи, меня проводит Николай Николаевич» (это Соболев, наш великий книжник и якобы секретарь Алексея Федоровича — чтобы получить карточки продуктовые). Подпись — Хан. А какие росчерки — на полстраницу. А Мусенька пишет спешно целые реляции — завтрак, обед, по пунктам (в науке ее астрономии всегда порядок) и еще с юмором: «Посуды!!!» и сбоку: «Алексеюшка — Азушка» и снизу: «Муська, Азка, Хан». Подпись — «Муська». А то с укором: «Аза! Что же ты ходишь целый день голодная? Если уж себя не жалеешь, то меня бы с Ханом пожалела! Мало у нас скорбей, хочешь еще свою болезнь добавить». Предписывается мне «Хана не будить, пока сам не встанет… борщ сварить с грибами». Тут же «Хочется втроем на „Электру“ сходить» (это к вахтанговцам). «И еще ресничек хочется» (это чтобы я приласкала). «И вообще очень многого всего хочется. Торта тоже, напр., хочется. И чтобы люди все как ангелы были». О, какая мечта! Несбыточная. Но хочется. Есть еще N.B. (nota bene) — кашу на обед поставить в печку, «она упреет». Вот это называется, по Лосеву, «полнота жизни». Иногда и так: «Суп надо сейчас же скипятить, а то он до обеда прокиснет». «Аза, когда придешь, посмотри, прогорела ли печка и закрыть ее окончательно». Это та самая печка, куда однажды забралась кошка (от крыс нас спасала) и выскочила в испуге в искрах. Азка-хохолок (это все я) научилась и печку топить. Но Азка уже проверяла и машинопись, вписывала греческий текст, а заодно по записке Муси напоминала Хану о том или другом. Например: «Хохолок! Скажи Хану, чтобы надел новые галоши. Лежат в бумаге на моем письменном столе». Как это похоже на Мусеньку — галоши на столе письменном, но зато заметно. Временем дорожили. Азушке надо чистить судака (суп делать), но тратить время Ханское нельзя. Значит, когда Валентина Михайловна придет и сядет за стол с Ханом, Хохолок почистит рыбу. Иной раз приказывает: «Посуду не мыть», значит, предстоит важная работа. «Как не хочется уходить надолго!» — страдает Муся. И просит Азушку быть «поласковей с Ханом», «не давай ему звонить в издательство, позвони сама». И Хан просит книжку передать Вале Гусятинской, «лежит на круглом столе». (Сколько книг там лежало! А теперь нет, все в шкафах.) Да и я иной раз оставляю записки: «Мусь, суп готов, картошка очищена, посуда вымыта. Андрюшка (это Андрей Белецкий по-домашнему) нас надул (не пришел). Мы идем походить», и подпись «Кикиндель». А на обороте записаны Сомнения в текстах к мифологии (Минуций Феликс и Прокл), значит, мне надо их проверить. Сообщаю: «Мусь, милый, Хан и Кикиндель отправились в Ленинку». И, наконец, уходя на работу, записка оставляется: «Поздравляю Азушку с днем рождения. Муся. 26 окт. 950 г.». Рядом корзина цветов с записочкой. Вот неожиданность! А это прилежная слушательница моих лекций с другого факультета, Альбина, Аля, Авдукова (стала на всю жизнь другом). И как узнала о моем дне рождения? Весь день с утра — радостно.
Играючи справлялась Валентина Михайловна с домашними делами, не забывая проверять контрольные, курсовые, дипломные по теоретической механике, — и все ко времени. И вдруг что-то вкусное приготовит, быстро, сноровисто, никогда не задумываясь над рецептами, только интуитивно. А если встречаем Светлый праздник, то куличек каким-то чудом в печке голландской испечет, хотя бы почти символический (настоящий принесет старая монахиня), а пасху сырную с цукатами творит с небывалым тщанием, протирает внимательно, ситечко волосяное, ваниль ароматная и все — в меру. Алексей Федорович — тонкий ценитель. Но ведь и кулич, и пасха, и яички — украшение праздничное, а суть, а главное — наш общий с Мусенькой пасхальный канон — старинная книжечка (жива до сих пор у меня), где каждая заставка, каждая буковка — красная, радостная, как и сам праздник Воскресения Христова. Никогда больше не встречали мы после кончины Мусеньки великий Светлый праздник как торжество высокого духовного горения и благоговейной любви. Без Валентины Михайловны осиротели мы с Алексеем Федоровичем во всех смыслах.
Мне нравилось, что Мусенька никогда не жалела посуды, не разделяла ее, как многие, на обычную и праздничную. У нее все было празднично. Она с детства у родителей привыкла к хорошо и красиво накрытому столу. Правда, Тарабукин бранил ее за скатерть с кофейными пятнами, но она покорно ее снимала и застилала другую (скатертей много осталось после бомбежки). А красивые чашки и тарелочки (особенно японские и китайские; после войны их много продавали) всегда в деле; если разбиты — не страшно. Никогда не было у Мусеньки мещанского «благоговенья» перед дорогой посудой «для гостей». Когда Алексею Федоровичу она подарила великолепного фарфора чашку, он ежедневно из нее пил кофе. Это уже я, после Мусеньки, как память о ней, спрятала чашку и заменила другой.
А вот в одежде — сама простота. Но так оденется, совсем не думая — некогда, — что кажется — дорогое. И многие обманывались, не верили, когда Мусенька скончалась, что у нее никакого гардероба не осталось, одно-два платья я донашивала в ее память. Что ей платья и для себя — красота, вот для других — совсем другое дело! Для Алексея Федоровича запасала костюмы и пальто, которые он много лет носил, и все равно как новые (последнее летнее — в музейной части «Дома А. Ф. Лосева» — экспонат).
…Итак, меня посадили напротив в низкое тяжелое официальное кресло — осталось от выехавшей из дома организации. Так мы и просидели с этой минуты всю жизнь. Он в своем кресле с высокой спинкой, раздумывая, близко поднося к глазам листочки блокнота, что-то записывая, диктуя, размышляя вслух, а я — напротив, с листами бумаги, текстами греков и римлян, словарями, справочниками. И уже кресло это страшно официальное я выбросила, уже сидела на простом крепком стуле. На него и встать было можно, чтобы дотянуться до книг, сразу лестницу не принесешь. Уже занимаясь, работая, прислушивалась, не кипит ли что на плитке, не булькает ли вода, не сгорело ли что, — а то и дров в печку надо подбросить, — как-то все эти обязанности, ученые, домашние, хозяйственные, скоро мы с Валентиной Михайловной поделили. Да и трудно ей, бедной, было. В Московском авиационном институте полная ставка на кафедре теоретической механики у важного Георгия Николаевича Свешникова, да еще в Авиационной академии. Старик-отец, как ребенок, муж — тоже большой ребенок: в хозяйство допускать нельзя.
Можно только писать записочки, о которых я уже упоминала. А мне еще надо было в Ленинке поработать, и, бывало, до позднего вечера, успеть в общежитие. На улицах мрак, страшно. Трамваи ходят плохо, бежишь пешком. Утром тоже спешишь. Еще надо успеть обменять водку у рынка Усачевского на что-либо более полезное, а на Сивцевом Вражке, тишайшем, пустом, обменяться с молочницами с Киевского вокзала: я им — селедку, они мне — молоко; я им — спички или чай, они мне — молоко.