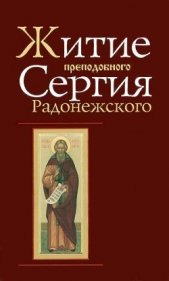Жизнь и судьба: Воспоминания

Жизнь и судьба: Воспоминания читать книгу онлайн
Вниманию читателей предлагаются воспоминания Азы Алибековны Тахо-Годи, человека необычной судьбы, известного ученого и педагога, филолога-классика, ученицы, спутницы жизни и хранительницы наследия выдающегося русского философа Алексея Федоровича Лосева. На страницах книги автор вспоминает о трагических поворотах своей жизни, о причудливых изгибах судьбы, приведших ее в дом к Алексею Федоровичу и Валентине Михайловне Лосевым, о встречах со многими замечательными людьми — собеседниками и единомышленниками Алексея Федоровича, видными учеными и мыслителями, в разное время прошедшими «Арбатскую академию» Лосева.
Автор искренне благодарит за неоценимую помощь при пересъемке редких документов и фотографий из старинных альбомов В. Л. ТРОИЦКОГО и Е. Б. ВИНОГРАДОВУ (Библиотека «Дом А. Ф. Лосева»)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В своих воспоминаниях о лагерной жизни Н. П. Анциферов так писал о чете Лосевых: «Все чаще приходили радостные новости о досрочных освобождениях. Был освобожден и А. Ф. Лосев. Но жена его, заключенная по его делу, освобождена не была, и Алексей Федорович остался вольнонаемным. Как живо помню я эту дружную высокую чету, направлявшуюся из 1-го лагеря в Управление на работы. Жена Лосева Валентина Михайловна произвела на меня глубокое впечатление какой-то особой душевной грацией, одухотворяющей все ее движения. Блестяще образованная, умная, талантливая, она могла бы много достигнуть в своей специальности — астрономии. Но она всю свою жизнь, все силы своей богато одаренной души посвятила мужу, любя его как человека, безгранично и страстно веря в его великое призвание философа. Каждая встреча с ними была для меня большой радостью» [265].
…Вот я и переступила через порог кабинета и села напротив человека в черной шапочке и шотландском пледе (осень сырая, промозглая). Руки крепко удерживают львиные головы черного кресла, и стук ноги нетерпеливый, совсем как на экзамене, но здесь, в этом мрачном, темном кабинете, в сто раз похуже экзамена. «Ну-с, приступим», — сказал профессор Лосев.
И началась моя новая жизнь. Началась она в доме разоренном, где собраны слабые признаки единого и целого прошлого бытия. Меня встречает полный хаос разбитых вещей, груды гниющей картошки в прихожей, где на стенах трогательный греческий орнамент — волна и меандр — это постарались ребята из бывшей Строгановки. Называется — подсластить жизнь. Недаром и в дальнейшем: как беда, так Валентина Михайловна покупает что-нибудь сладкое, приятное, да и я так же стану поступать.
Куда ни глянешь, груды рукописей, на подоконниках, по углам, а в закоулках каких-то немыслимых, о, ужас — иконы разбитые. Кастрюли, чайники, посуда на полу, на табуретках, рядом у печки дрова навалены, уголь, и среди этого нагромождения разбитых осколков прежней жизни в глубоком кресле ясноглазый старец, Михаил Васильевич, отец Валентины Михайловны, тот, которого спасли из-под развалин дома. Добрые глаза смотрят ласково на девочку, как он сразу стал меня называть [266]. Он и скончался при мне в декабре 1945 года, девяностодвухлетний, в полном разуме, от скоротечного рака пищевода, умер голодной смертью, а глаза смотрели с мучительно-терпеливой лаской и на дочь, и на меня, только еще начинавшую жить в свои двадцать два года, на ту, которая займет вскоре короткий диванчик (ноги можно поджать — это все пустяки), где он, Михаил Васильевич, почивал.
Вот и я обрела уголок на этом диванчике, где пребывала в неизъяснимом счастье многие годы. И не нужны мне были ни ласкающие сны, ни Лоэнгрин, ни белый лебедь, ни даль, о которых горевала в своих стихах Людмила Васильевна Крестова. Я попросту обрела в разоренном лосевском гнезде свою духовную родину во всей ее полноте, умозрительную, но родину.
Здесь и строгость, и дисциплина, и взыскательность Алексея Федоровича (его мы с Валентиной Михайловной именовали Ханом за самовластие — покорялись, признаться, вполне охотно). Но здесь же теплота и ласка поистине родная, материнская Валентины Михайловны, моей Мусеньки, как я ее называла, зная, что есть еще у меня и любящая мама, далеко за тысячи верст. Вот и приходилось разрываться — лета не дождусь к маме, на Кавказ, на южное приволье, хотя там господствует свой строгий порядок, а здесь при внешней неупорядоченности материи стройная упорядоченность духа. И к ней влечет меня необоримая сила, когда приближается конец утомительного от ощутимых всем существом радостей лета.
Так незаметно раздваивается душа — здесь и там, там и здесь. И перед моим очередным отъездом на Кавказ, печально и выжидательно глядя на меня, говорит Валентина Михайловна: «Ну, вот, опять уезжаешь. Ты красивая, выйдешь там замуж». А мне смешно. Там? Замуж? Да никогда. И я смело отвечаю: «Я вас обоих никогда не покину. Здесь останусь». О, как помню я этот момент в дверях, на пороге, перед моим отъездом туда. Как помню мой храбрый ответ, ответ девочки, заранее принимающей всё будущее, по молодости о нем и не думающей. Будущее для меня — вечно настоящее, с Валентиной Михайловной и Алексеем Федоровичем. А вечно настоящее, я поняла это каким-то шестым чувством, — сама вечность, и, значит, вечная радость втроем.
Но мама, мама, которая тяжело переживает совсем непонятную ей нашу близость, ни в какие житейские привычные категории не умещающуюся! (Так и не поняла, но приняла, как неизбежное.)
Как мне не вспомнить свои рифмованные признания маме. О снежной дороге, что привела ее в алтайский городишко, к любимой дочери, о ее письмах с надеждой на мое большое и счастливое будущее. А жизнь все время доказывала ей тяготы нашей с Лосевыми московской жизни, и это вместо благостного семейного счастья, о котором мечтает каждая мать. Да и я погружаюсь в чувство вины и пишу прямо:
И признаюсь, и прошу: «Я виновата пред тобой / Прости меня, пойми, родная!» А как мы обнимались в снежную алтайскую ночь, и я узнала маму не по голосу, а по родным глазам из-под серого платка?! А как мы плакали, обнимаясь, в ее лагерной темени?! А как мы кинулись друг к другу ранними сумерками летнего рассвета, когда меня не ждали?! Все это правда, и от нее не уйдешь. Ничего не могу с собой поделать, виню себя нещадно, маму люблю всем сердцем и всей плотью. Но люблю и тех, кого называю Муся, Ма и Хан и кто называет меня Кикиндель [267] или Азка.
Первое, что я напечатала на пишущей машинке (их сохранилось несколько, и очень забавных, старинных — потом куда-то дели), были такие слова: «Мусики, носики, котишки. Ма, Хан, Азка».
И вот эта маленькая дружная компания собирается на дачу. Имеется в виду дача по Казанской дороге (Казанская дорога — лучшие мои воспоминания, не считая Валентиновки) в деревне Опариха. Дачу эту, скорее часть избы у бабки Татьяны (она принимала Алексея Федоровича чуть ли не за митрополита и падала перед ним ниц), сняли для Лосевых их верные друзья Тарабукины, Николай Михайлович (великий, но гонимый искусствовед — оценят в конце XX века) и Любовь Ивановна — художница, картины которой — цветы, всегда цветы. У нас столовую украшает ее букет на фоне книг, а как же иначе. Николай Михайлович, очень строгий и привередливый в искусстве, снисходительно одобрял — ничего не поделаешь, жена, и не только художница, но и красавица, да еще какая, не только в далеком прошлом (Бальмонт посвящал ей свои экспромты), но даже и в сороковые годы (да и позже, в семидесятые) очаровательная. Опариха далеко от железной дороги, пешком не менее часа, но я туда, к «своим», приезжаю почти каждый день, а то и меня оставляют ночевать. Итак, едем в Опариху, которая вдохновила меня на следующий машинописный опыт, да еще напечатанный варварски с точки зрения аккуратности и правил.
«В Опарихе, в саду, на хоботках [268] отдыхали трое: Хан с козырьком [269], Мусь с трогательной косичкой и их глупый Кикиндель. Хан был важный-преважный и говорил только „Угу“ или „ммм“. Мусь, делая строгое лицо, произносила „антиномия“. Кикиндель был неразумный гадкий утенок и вечно смеялся. „Господи! — восклицала Мусь. — Да ведь она совсем ребенок“. „Угу“, — неопределенно произносил Хан и задумчиво покачивал головой, а Кикиндель тоже хотел казаться взрослым и делал серьезную мину, пряча смехунчиков-бесенят и щекоча ресничками Мусину щеку. Втроем они смотрели на мир — двое взрослых, прошедших длинный тернистый путь, и человеческий детеныш, которого они нашли на одном из поворотов дороги в никуда».