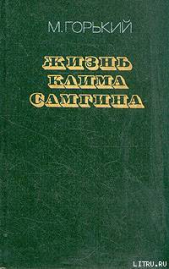Книга о русских людях
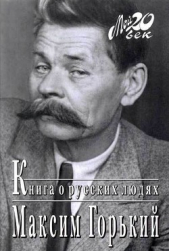
Книга о русских людях читать книгу онлайн
В книгу воспоминаний Максима Горького — Алексея Максимовича Пешкова (1868–1936), — одного из самых знаменитых писателей XX века, вошли его «Заметки из дневника» (поистине уникальный ряд русских характеров — от интеллигента до философствующего босяка, от революционера до ярого монархиста), знаменитые литературные портреты А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, Л. Н. Андреева, В. Г. Короленко, С. А. Есенина, С. Т. Морозова, В. И. Ленина (очерк о нем публикуется в первой редакции — без позднейших наслоений «хрестоматийного глянца»), а также прогремевшая в свое время хроника Октябрьской революции «Несвоевременные мысли».
Предисловие, примечания Павла Басинского
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда я сказал: жаль, что он забыл, как хорошо удалось ему сотворить из коротконогой горничной первую красавицу мира, что он не хочет больше извлекать из грязной руды действительного золотые жилы красоты, — он комически хитро прищурился, говоря:
— Ишь ты, какой лакомый! Нет, я не намерен баловать вас, романтиков…
Невозможно было убедить его в том, что именно он — романтик.
На «Собрании сочинений», которое Леонид подарил мне в 1915 г., он написал: «Начиная с курьерского «Бергамота», здесь все писалось и прошло на твоих глазах, Алексей: во многом это — история наших отношений».
Это, к сожалению, верно; к сожалению — потому, что я думаю: для Л. Андреева было бы лучше, если бы он не вводил в свои рассказы «историю наших отношений». А он делал это слишком охотно и, торопясь «опровергнуть» мои мнения, портил этим свою обедню. И как будто именно в мою личность он воплотил своего невидимого врага.
— Я написал рассказ, который наверное не понравится тебе, — сказал он однажды. — Прочитаем?
Прочитали. Рассказ очень понравился мне, за исключением некоторых деталей.
— Это — пустяки, это я исправлю, — оживленно говорил он, расхаживая по комнате, шаркая туфлями. Потом сел рядом со мною и, откинув свои волосы, заглянул в глаза мне.
— Вот — я знаю, чувствую, ты искренно хвалишь рассказ. Но — я не понимаю, как может он нравиться тебе?
— Мало ли на свете вещей, которые не нравятся мне, однако это не портит их, как я вижу.
— Рассуждая так, нельзя быть революционером.
— Ты что же, смотришь на революционера глазами Нечаева: «революционер — не человек»?
Он обнял меня, засмеялся:
— Ты плохо понимаешь себя. Но — слушай, — ведь когда я писал «Мысль», я думал о тебе; Алексей Савелов — это ты! Там есть одна фраза: «Алексей не был талантлив» — это, может быть, нехорошо с моей стороны, но ты своим упрямством так раздражаешь меня иногда, что кажешься мне неталантливым. Это я нехорошо написал, да?
Он волновался, даже покраснел.
Я успокоил его, сказав, что не считаю себя арабским конем, а только ломовой лошадью; я знаю, что обязан успехами моими не столько природной талантливости, сколько уменью работать, любви к труду.
— Странный ты человек, — тихо сказал он, прервав мои слова, и вдруг, отрешившись от пустяков, задумчиво начал говорить о себе, о волнениях души своей. Он не имел общерусской неприятной склонности исповедоваться и каяться, но иногда ему удавалось говорить о себе с откровенностью мужественной, даже несколько жесткой, однако — не теряя самоуважения. И это было приятно в нем.
— Понимаешь, — говорил он, — каждый раз, когда я напишу что-либо особенно волнующее меня, — с души моей точно кора спадает, я вижу себя яснее и вижу, что я талантливее написанного мной. Вот — «Мысль». Я ждал, что она поразит тебя, а теперь сам вижу, что это, в сущности, полемическое произведение, да еще не попавшее в цель.
Вскочил на ноги и полушутя заявил, встряхнув волосами:
— Я боюсь тебя, злодей! Ты — сильнее меня, я не хочу поддаваться тебе.
И снова серьезно:
— Чего-то не хватает мне, брат. Чего-то очень важного, — а? Как ты думаешь?
Я думал, что он относится к таланту своему непростительно небрежно и что ему не хватает знаний.
— Надо учиться, читать, надо ехать в Европу…
Он махнул рукой.
— Не то. Надо найти себе бога и поверить в мудрость его.
Как всегда, мы заспорили. После одного из таких споров он прислал мне корректуру рассказа «Стена». А по поводу «Призраков» он сказал мне:
— Безумный, который стучит, это — я, а деятельный Егор — ты. Тебе действительно присуще чувство уверенности в силе твоей, это и есть главный пункт твоего безумия и безумия всех подобных тебе романтиков, идеализаторов разума, оторванных мечтой своей от жизни.
Скверный шум, вызванный рассказом «Бездна», расстроил его. Люди, всегда готовые услужить улице, начали писать об Андрееве различные гадости, доходя в сочинении клеветы до комизма: так, один поэт напечатал в харьковской газете, что Андреев купался со своей невестой без костюмов. Леонид обиженно спрашивал:
— Что же он думает, — во фраке, что ли, надо купаться? И ведь врет, не купался я ни с невестой, ни соло, весь год не купался — негде было. Знаешь, я решил напечатать и расклеить по заборам покорнейшую просьбу к читателям, — краткую просьбу:
Он был чрезмерно, почти болезненно внимателен к отзывам о его рассказах и всегда, с грустью или с раздражением, жаловался на варварскую грубость критиков и рецензентов, а однажды даже в печати жаловался на враждебное отношение критики к нему лично как человеку
— Не надо этого делать, — советовали ему.
— Нет, нужно, а то они, стараясь исправить меня, уши мне отрежут или кипятком ошпарят…
Его жестоко мучил наследственный алкоголизм; болезнь проявлялась сравнительно редко, но почти всегда в формах очень тяжелых. Он боролся с нею, борьба стоила ему огромных усилий, но порой, впадая в отчаяние, он осмеивал эти усилия.
— Напишу рассказ о человеке, который с юности двадцать пять лет боялся выпить рюмку водки, потерял из-за этого множество прекрасных часов жизни, испортил себе карьеру и умер во цвете лет, неудачно срезав себе мозоль или занозив себе палец.
И действительно, приехав в Нижний ко мне, он привез с собою рукопись рассказа на эту тему.
В Нижнем у меня Л.Н. встретил отца Феодора Владимирского, протоиерея города Арзамаса, а впоследствии члена Второй Государственной думы, — человека замечательного. Когда-ни-будь я попробую написать его житие, а пока нахожу необходимым кратко очертить главный подвиг его жизни.
Город Арзамас чуть ли не со времени Ивана Грозного пил воду из прудов, где летом плавали трупы утопших крыс, кошек, кур, собак, а зимою, подо льдом, вода протухала, приобретая тошнотворный запах. И вот отец Феодор, поставив себе целью снабдить город здоровой водой, двенадцать лет самолично исследовал почвенные воды вокруг Арзамаса. Из года в год, каждое лето он, на восходе солнца, бродил, точно колдун, по полям и лесам, наблюдая, где земля «преет». И после долгих трудов нашел подземные ключи, проследил их течение, перекопал, направил в лесную ложбину за три версты от города и, получив на десять тысяч жителей свыше сорока тысяч ведер превосходной ключевой воды, предложил городу устроить водопровод. У города был капитал, завещанный одним купцом условно или на водопровод, или на организацию кредитного общества. Купечество и начальство, добывая воду бочками на лошадях из дальних ключей за городом, в водопроводе не нуждалось и, всячески затрудняя работу отца Феодора, стремилось употребить капитал на основание кредитного общества, а мелкие жители хлебали тухлую воду прудов, оставаясь — по привычке, издревле усвоенной ими, — безучастны и бездеятельны. Итак, найдя воду, отец Феодор принужден был вести длительную и скучную борьбу с упрямым своекорыстием богатых и подленькой глупостью бедняков.
Приехав в Арзамас под надзор полиции, я застал его в конце работы по собиранию источников. Этот человек, истощенный каторжным трудом и несчастиями, был первым арзамасцем, который решился познакомиться со мной, — мудрое арзамасское начальство, строжайше запретив земским и другим служащим людям посещать меня, учредило, на страх им, полицейский пост прямо под окнами моей квартиры.
Отец Феодор пришел ко мне вечером, под проливным дождем, весь — с головы до ног — мокрый, испачканный глиной, в тяжелых мужицких сапогах, сером подряснике и выцветшей шляпе — она до того размокла, что сделалась похожей на кусок грязи. Крепко сжав руку мою мозолистой и жесткой ладонью землекопа, он сказал угрюмым баском:
— Это вы — нераскаянный грешник, коего сунули нам исправления вашего ради? Вот мы вас исправим! Чаем угостить можете?