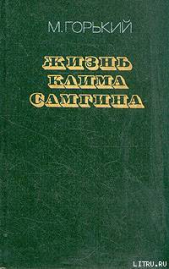Книга о русских людях
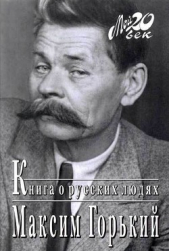
Книга о русских людях читать книгу онлайн
В книгу воспоминаний Максима Горького — Алексея Максимовича Пешкова (1868–1936), — одного из самых знаменитых писателей XX века, вошли его «Заметки из дневника» (поистине уникальный ряд русских характеров — от интеллигента до философствующего босяка, от революционера до ярого монархиста), знаменитые литературные портреты А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, Л. Н. Андреева, В. Г. Короленко, С. А. Есенина, С. Т. Морозова, В. И. Ленина (очерк о нем публикуется в первой редакции — без позднейших наслоений «хрестоматийного глянца»), а также прогремевшая в свое время хроника Октябрьской революции «Несвоевременные мысли».
Предисловие, примечания Павла Басинского
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Потом мы сидели на «Стрелке» под дурацким пузырем тумана, курили, и, когда вспыхивал огонек папирос, — видно было, как седеют наши пальто, покрываясь тусклым бисером сырости.
Леонид говорил с неограниченной откровенностью, и это не была откровенность пьяного, — его ум почти не пьянел до момента, пока яд алкоголя совершенно прекращал работу мозга.
— Если бы я остался с девками, это кончилось бы плохо для кого-то. Всё так. Но — за это я тебя и не люблю, именно за это! Ты мешаешь мне быть самим собою. Оставь меня — я буду шире. Ты, может быть, обруч на бочке, уйдешь и — бочка рассыплется, но — пускай рассыплется, — понимаешь? Ничего не надо сдерживать, пусть все разрушается. Может быть, истинный смысл жизни именно в разрушении чего-то, чего мы не знаем; или — всего, что придумано и сделано нами.
Темные глаза его угрюмо упирались в серую массу вокруг него и над ним, иногда он их опускал к земле, мокрой, усыпанной листьями, и топал ногами, словно пробуя прочность земли.
— Я не знаю, что ты думаешь, но — то, что ты всегда говоришь, не твоей веры, не твоей молитвы слова. Ты говоришь, что все силы жизни исходят от нарушения равновесия, а сам ищешь именно равновесия, какой-то гармонии и меня толкаешь на это, тогда как — по-твоему же — равновесие — смерть!
Я возражал: никуда я не толкаю его, не хочу толкать, но — мне дорога его жизнь, здоровье дорого, работа его.
— Тебе приятна только моя работа — мое внешнее, — а не сам я, не то, чего я не могу воплотить в работе. Ты мешаешь мне и всем, иди в болото!
Навалился на плечо мне и, с улыбкой заглядывая в лицо, продолжал:
— Ты думаешь, я пьян и не понимаю, что говорю чепуху? Нет, я просто хочу разозлить тебя. Я, брат, декадент, выродок, больной человек. Но Достоевский был тоже больной, как все великие люди. Есть книжка — не помню чья — о гении и безумии, в ней доказано, что гениальность — психическая болезнь! Эта книга — испортила меня. Если бы я не читал ее, — я был бы проще. А теперь я знаю, что почти гениален, но не уверен в том, — достаточно ли безумен? Понимаешь, — я сам себе представляюсь безумным, чтоб убедить себя в своей талантливости, — понимаешь?
Я — засмеялся. Это показалось мне плохо выдуманным и потому неправдивым.
Когда я сказал ему это, он тоже захохотал и вдруг гибким движением души, акробатически ловко перескочил в тон юмориста:
— А — где кабак, место священнодействий литературных? Талантливые русские люди обязательно должны беседовать в кабаке, — такова традиция, без этого критики не признают таланта.
Сидели в ночном трактире извозчиков, в сырой дымной духоте: по грязной комнате сердито и устало ходили сонные «человеки», «математически» ругались пьяные, визжали страшные проститутки, одна из них, обнажив левую грудь — желтую, с огромным соском коровы, — положила ее на тарелку и поднесла нам, предлагая:
— Купите фунтик?
— Люблю бесстыдство, — говорил Леонид, — в цинизме я ощущаю печаль, почти отчаяние человека, который сознает, что он не может не быть животным, хочет не быть, а не может! Понимаешь?
Он пил крепкий, почти черный чай; зная, что так нравится ему и отрезвляет его, — я нарочно велел заварить больше чая. Прихлебывая дегтеподобную, горькую жидкость, щупая глазами вспухшие лица пьяниц, Леонид непрерывно говорил:
— С бабами — я циничен. Так — правдивее, и они это любят. Лучше быть законченным грешником, чем праведником, который не может домолиться до полной святости.
Оглянулся, помолчал и говорит:
— А здесь — скучно, как в духовной консистории!
Это рассмешило его.
— Я никогда не был в духовной консистории, в ней должно быть что-то похожее на рыбный садок…
Чай отрезвил его. Мы ушли из трактира. Туман сгустился, опаловые шары фонарей таяли, как лед.
— Мне хочется рыбы, — сказал Леонид, облокотясь на перила моста через Неву, и оживленно продолжал: — Знаешь, как бывает со мной? Вероятно, так дети думают, — наткнется на слово — рыба и подбирает созвучные ему: рыба, гроба, судьба, иго, Рига, — а вот стихи писать — не могу!
Подумав, он добавил:
— Так же думают составители букварей…
Снова сидели в трактире, угощаясь рыбной солянкой; Леонид рассказывал, что его приглашают «декаденты» сотрудничать в «Весах».
— Не пойду, не люблю их. У них за словами я не чувствую содержания, они «опьяняются» словами, как любит говорить Бальмонт. Тоже — талантлив и — больной.
В другой раз — помню — он сказал о группе «Скорпиона»:
— Они насилуют Шопенгауэра, а я люблю его и потому ненавижу их.
Но это слишком сильное слово в его устах, — ненавидеть он не умел, был слишком мягок для этого. Как-то показал мне в дневнике своем «слова ненависти», но — они оказались словами юмора, и он сам искренно смеялся над ними.
Я отвез его в гостиницу, уложил спать, но, зайдя после полудня, узнал, что он, тотчас после того как я ушел, встал, оделся и тоже исчез куда-то. Я искал его целый день, но не нашел.
Он непрерывно пил четыре дня и потом уехал в Москву.
У него была неприятная манера испытывать искренность взаимных отношений людей; он делал это так: неожиданно, между прочим, спрашивает:
— Знаешь, что Z сказал про тебя? — или сообщит:
— А S говорит о тебе…
И темным взглядом, испытуя, заглядывает в глаза.
Однажды я сказал ему:
— Смотри, — так ты можешь перессорить всех товарищей!
— Ну что же? — ответил он. — Если ссорятся из-за пустяков, значит — отношения были неискренни.
— Чего ты хочешь?
— Прочности, такой — знаешь — монументальности, красоты отношений. Надо, чтоб каждый из нас понимал, как тонко кружево души, как нежно и бережливо следует относиться к ней. Необходим некоторый романтизм отношений, в кружке Пушкина он был, и я этому завидую. Женщины чутки только к эротике, евангелие бабы — «Декамерон».
Но через полчаса он осмеял свой отзыв о женщинах, уморительно изобразив беседу эротомана с гимназисткой.
Он не выносил Арцыбашева и порою с грубой враждебностью высмеивал его именно за одностороннее изображение женщины как начала исключительно чувственного.
Однажды он мне рассказал такую историю: когда ему было лет одиннадцать, он увидал где-то в роще или в саду, как дьякон целовался с барышней.
— Они целовались, и оба плакали, — говорил он, понизив голос и съеживаясь; когда он рассказывал что-нибудь интимное, он напряженно сжимал свою несколько рыхлую мускулатуру.
— Барышня была такая, знаешь, тоненькая, хрупкая, на соломенных ножках, дьякон — толстый, ряса на животе засалена и лоснится. Я уже знал, зачем целуются, но первый раз видел, что целуясь — плачут, и мне было смешно. Борода дьякона зацепилась за крючки расстегнутой кофты, он замотал головой, я свистнул, чтобы испугать их, испугался сам и — убежал. Но в тот же день вечером почувствовал себя влюбленным в дочь мирового судьи, девчонку лет десяти, ощупал ее, грудей у нее не оказалось, значит целовать нечего и она не годится для любви. Тогда я влюбился в горничную соседей, коротконогую, без бровей, с большими грудями, — кофта ее на груди была так же засалена, как ряса на животе дьякона. Я очень решительно приступил к ней, а она меня решительно оттрепала за ухо. Но это не помешало мне любить ее, она казалась мне красавицей, и чем далее, тем больше. Это было почти мучительно и очень сладко. Я видел много девиц действительно красивых и умом хорошо понимал, что возлюбленная моя — урод сравнительно с ними, а все-таки для меня она оставалась лучше всех. Мне было хорошо, потому что я знал: никто не мог бы любить так, как умею я, белобрысую толстую девку, никто — понимаешь — не сумел бы видеть ее красивее всех красавиц!
Он рассказал это превосходно, насытив слова своим милым юмором, который я не умею передать; как жаль, что, всегда хорошо владея им в беседе, он пренебрегал или боялся украшать его игрой свои рассказы, — боялся, видимо, нарушить красками юмора темные тона своих картин.