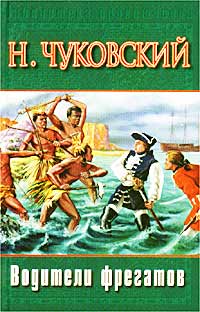О том, что видел: Воспоминания. Письма
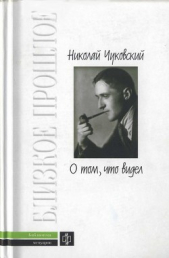
О том, что видел: Воспоминания. Письма читать книгу онлайн
Николай Корнеевич Чуковский (1904–1965) известен прежде всего как автор остросюжетных повестей об отважных мореплавателях, составивших книгу «Водители фрегатов», и романа о блокадном Ленинграде — «Балтийское небо». Но не менее интересны его воспоминания, вошедшие в данную книгу. Судьба свела писателя с такими выдающимися представителями отечественной культуры, как А. Блок, Н. Гумилев, Н. Заболоцкий, О. Мандельштам, Ю. Тынянов, Е. Шварц. Будучи еще очень юным, почти мальчиком, он носил любовные записки от В. Ходасевича к Н. Берберовой. Обо всем увиденном с удивительным мастерством и чрезвычайной доброжелательностью Чуковский написал в своих мемуарах. Немало страниц «младший брат» посвятил своим старшим друзьям — «Серапионовым братьям» — И. Груздеву, М. Зощенко, В. Иванову, В. Каверину, Л. Лунцу, Н. Никитину, В. Познеру, Е. Полонской, М. Слонимскому, Н. Тихонову, К. Федину. Особая новелла — о литературном салоне Наппельбаумов. Квартиру известного фотографа, где хозяйничали сестры Ида и Фредерика, посещали Г. Адамович, М. Кузмин, И. Одоевцева и многие другие. Вторую часть книги составляет переписка с отцом, знаменитым Корнеем Чуковским. Письма, известные до сих пор лишь в меньшей своей части, впервые публикуются полностью. Они охватывают временной промежуток в четыре с лишним десятилетия — с 1921 по 1965 год.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Юрий Николаевич очень любил и великолепно знал русскую поэзию; множество стихов помнил он наизусть. Когда я заходил к нему на дачу, мы, оставшись одни, часто занимались вспоминанием стихов. Конечно, он помнил гораздо больше меня; да и любили мы разное. Стихи мелодического, романсового склада, нравившиеся мне, были ему чужды; он был холоден и к Фету, и к Блоку, и к Лермонтову. Сам он любил стихи декламационные, ораторские или афористические. Кроме поэтов пушкинской поры, которых он был выдающимся знатоком, любил он Державина; а из более поздних, к моему удивлению, Апухтина. Он хорошо понимал безвкусицу апухтинских стихов и тем не менее многие знал наизусть — он ему нравился своей свободной ораторской интонацией. Из поэтов двадцатого века больше всего любил он Иннокентия Анненского. Много раз читал он мне сонет Анненского «Человек», который кончается так:
А стихотворение Анненского «Кэк-уок на цимбалах» он пел на мотив кэк-уока; пел очень фальшиво, каким-то детским голосом, но с огромным увлечением:
Из нерусских поэтов он больше всего любил и лучше всего знал Генриха Гейне. Он много переводил его, и переводил превосходно, — и очень жаль, что теперь сочинения Гейне на русском языке порой выходят без переводов Тынянова. Но и в Гейне он любил прежде всего не лирику, не мелодию, а насмешливость и остроумие. Для перевода он выбирал обычно стихи сатирические и переводил их так, что все лирическое отходило на задний план, а на переднем плане оставался один только суховатый треск острот.
Болезнь его развивалась неуклонно, но медленно. Летом 1939 года он еще немного бродил, тяжело опираясь на трость, заведенную когда-то из щегольства и ставшую теперь необходимой подпоркой. Летом 1940 года он уже почти потерял способность ходить и целые дни неподвижно сидел в соломенном кресле в саду перед балконом своей дачки.
Это было тревожное, печальное, страшное лето. Только что пала Франция. На Западе шла война, неторопливо набирая скорость, и завтрашний день был туманен, но в его тумане ясно предчувствовались неслыханные беды. После конца «зимней» войны с Финляндией я был демобилизован, и в июне мы опять всей семьей поехали на дачу в Лугу. Меня очень огорчило, что я застал Тынянова в таком дурном состоянии. Потеряв способность ходить, он стал очень беспомощен; жена его и дочь в то лето на даче бывали мало, и ухаживала за ним его сестра Лидия Николаевна Каверина. Между сестрой и братом были самые нежные, самые близкие дружеские отношения. Постоянное присутствие младшей сестры, по-видимому, напоминало Юрию Николаевичу их общее детство, и он часто рассказывал, как они качались на качелях, когда были детьми. Он скучал, сидя с утра в своем соломенном кресле, все ждал, когда принесут газету, но газеты в Луге появлялись только к двум часам дня. Он с жадностью хватал газетный лист и долго читал. Иногда за газетой задремывал.
Как-то раз, застав его за газетой и поговорив с ним о новостях, я ушел на берег озера и там, под впечатлением разговора, написал стихотворение. Я написал его как бы от имени больного Тынянова и привожу его здесь только оттого, что в нем запечатлен один миг его жизни.
Я не видел Тынянова целую зиму и встретился с ним снова в апреле-мае 1941 года. Мы оба оказались в Доме творчества в Царском Селе. Дом этот прежде принадлежал Алексею Толстому. В 1937 году Толстой развелся с Натальей Васильевной Крандиевской, женился на Людмиле Баршевой, а свой царскосельский дом подарил Ленинградскому отделению Литфонда, и Литфонд устроил в нем Дом творчества. Это был небольшой Дом творчества — в нем было только двенадцать комнат не считая столовой и гостиной, и, следовательно, жило одновременно только двенадцать человек. Застав там Тынянова, я был удручен совершившейся с ним переменой. Двигался он уже еле-еле, — с величайшим трудом добирался из своей комнаты до обеденного стола. Теперь уже и руки служили ему плохо, — за столом он поминутно терял то ложку, то вилку. Он сгорбился и высох и казался бы маленьким старичком, если бы не черные волосы без единой сединки и не белые молодые зубы. Но главная перемена произошла не в физическом его состоянии, а в умственном. Мы, постояльцы, все ели за одним столом, и он, говорун и остроумец, как в прежние времена, развлекал весь стол рассказами, многие из которых я давно уже знал. Но, к моему удивлению и ужасу, эти рассказы теперь у него не получались, — он сбивался на середине, внезапно забывал продолжение, вяло и долго путался, и рассказ оставался без концовки, в которой и был весь смысл. Это всякий раз производило тягостное впечатление, — тем более что в нашем обществе были грубые и глупые люди, которые смеялись над ним.
Несмотря на болезненное расстройство памяти и внимания, он продолжал упорно работать над своим романом о Пушкине. Судя по результатам, болезнь никак не отразилась на романе. Но теперь он уже не писал залпом, в один присест, как прежние свои романы, а работал трудно, медленно и кропотливо. Не думаю, впрочем, что тут дело заключалось только в болезни. Дело было в самой теме, — жизнь Пушкина так изучена день за днем, что все это нагромождение мелких фактов, твердо установленных и поэтому неподатливых, связывало воображение романиста.