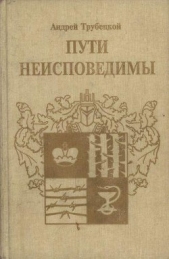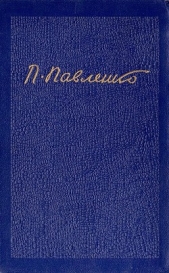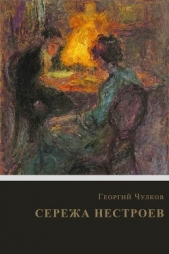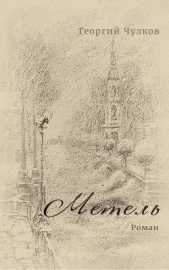Годы странствий

Годы странствий читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Бог есть. Бог есть», — твердил непрестанно Григорий Иванович, который всегда до той поры слыл скептиком и даже атеистом.
Значит где-то в тайниках души жила в нем вечная тревога, и возникал неизменно последний вопрос о тайне мира.
Жена его, Серафима Яковлевна, была тоже в полубреду. Мы не спали ночи, потому что не спал дядя, галлюцинируя и наводя ужас на служащих. Мы с отцом уехали, когда решено было отправить дядю в больницу, где он через год и скончался, не приходя в сознание.
К этому времени относится мучительный душевный кризис, который я переживал. Мои детские верования были уже поколеблены, и общий смысл рассудочной и так называемой научной критики христианства был мне известен. Но — странное дело — я размышлял, как скептик, а где-то в глубине души по-прежнему возникало особенное чувство, необъяснимое и таинственное, чувство личности Христа.Я как бы чувствовал иногда Его присутствие. И в то же время я жадно искал людей, с которыми я мог бы рассуждать и спорить на философские и религиозные темы, защищая скептицизм и нападая на положительную религию.[1179] Я уже успел тогда прочесть немало философских книжек.
Среди моих сверстников и товарищей по гимназии я не нашел ни одного, интересовавшегося теми вопросами, которые волновали меня. Зато я свел знакомство с несколькими гимназистами восьмого класса и со студентами, с которыми и вел беседы. К сожалению, никто из них не мог противопоставить моему ребяческому скептицизму ничего более мудрого. Я тосковал и задыхался в заколдованном кругу моих тогдашних представлений о мире. Вскоре я познакомился с Н. А. Ф. Это было случайное знакомство в саду дома Долинских, где жила наша семья и где жил этот Ф., студент-юрист четвертого курса. Я почувствовал к нему уважение за его образованность, которая казалась мне тогда глубокой и всесторонней. Пленяла меня также и цельность его мировоззрения. Он был атеистом и марксистом. Ему я обязан моим социалистическим воспитанием. Прошли годы, я встретился с этим Ф., и он вовсе не внушил мне прежних чувств. К атеизму я чувствовал отвращение. В марксизме я также разочаровался. Но социалистом я никогда не переставал быть. И этому Н. А. Ф. я до сих пор благодарен за то, что он мне открыл простую правдуо социальной закономерности.
Когда я был уже в седьмом классе и, значит, в Первой гимназии, познакомился я с семьею Петровых. Отец Петров был своеобразным представителем Москвы семидесятых и восьмидесятых годов. Кажется, он пришел в Москву «по-ломоносовски», крестьянским мальчиком поступил к часовщику учеником, выучился грамоте и так прилежно засел за книги, что вскоре обогнал многих и многих из своих сверстников, учившихся в гимназиях. Я познакомился с ним и с его уже взрослыми сыновьями тогда, когда он был стариком и у него был уже на Остоженке свой часовой магазин. Вся интеллигентная Москва знала и уважала этого старика. Его внушительную фигуру и великолепную голову с буйной седою шевелюрой можно было увидеть на первых представлениях в театре, на лекциях и в тогдашних литературных кружках Москвы. Лев Николаевич Толстой был с ним в хороших отношениях, и нередко у него бывал.[1180] Однажды я столкнулся с Толстым на пороге петровского магазина и невольно снял фуражку и поклонился острым и внимательным толстовским глазам, хотя в те дни у меня в душе был особенный бунт против «толстовства» и толстовских последователей.
У Петрова было два сына — Борис Гаврилович и Владимир Гаврилович. Вот с ними, собственно, я и вел знакомство, и они чаще у меня бывали, чем я у них. Борис Гаврилович пленял меня добродушием своего нрава и рассказами о своих студенческих приключениях. Нередко, подвыпив с приятелями, он не решался вернуться домой нетрезвым и приходил ночевать ко мне. Весною обыкновенно влезал он ко мне в окно — благо мы жили тогда в первом этаже — и растягивался на полу моей комнаты, подложив под голову свернутую шинель. Владимир Гаврилович, напротив, отличался строгостью характера и серьезностью поведения. С ним я проводил часы в долгих спорах на философские темы, изощряя свои диалектические способности. Владимир Гаврилович склонен был принять и оправдать моральное учение Толстого, а я проповедовал тогда «переоценку ценностей».
И как это ни странно, но именно в те дни, когда мой юный ум особенно остро и тонко старался обосновать «имморализм» в поведении человека и скептицизм в мировоззрении, сердце мое неистово предавалось таинственным предчувствиям. Бытие личного абсолютного существа было для меня несомненным. Я чувствовал непрестанную Его близость. Но я никому не открывал тогда моей тайны. Я защищал скептицизм, страстно желая, чтобы кто-нибудь разбил мои доводы, противоречащие моему внутреннему опыту. Но около меня не было тоща душевно сильных людей. Толстовское «христианство без Христа» меня вовсе не увлекало.
В это время здоровье моей матери бьло очень плохо.
У нее был порок сердца. Сердечные припадки появлялись все чаще и чаще. Приближение припадка я всегда предчувствовал. Так, бывало, сидишь где-нибудь в театре или у знакомых — и вдруг острая и мучительная мысль: сейчас начинается у матери припадок. Едешь торопливо домой и в самом деле находишь мать в постели.
Она полусидит, обложенная подушками, задыхается, перебирая судорожно бледными пальцами край одеяла. И вот мучаешься около нее, подавая лекарства и изнемогая от ужаса, смерть, казалось, стоит рядом и ждет. Тогда у меня в душе происходило что-то особенное. Не знаю, молился я тогда или не молился, но Единственный был тогда со мною. Я даже мог вызвать Его. Так я тогда верил — может быть, неправедно.Мне казалось, что я могу прекратить припадок у матери, если найду в себе силу. Надо было взять за руку мать и как-то особенно сосредоточиться, думая о Нем.Я обыкновенно смотрел тогда на светлую полосу на пороге комнаты и старался ничего не видеть, кроме нее. И если мне удавалось обо всем забыть и только о Нем помнить, припадок тотчас прекращался. Матери моей я об этом никогда ничего не говорил и никому не говорил.
Мать моя умерла, когда я был уже студентом. Она простудилась. У нее сделалось, по-видимому, воспаление легких. Сердце не выдержало. Когда наступили последние часы и доктора сказали, что нет спасенья, я сел около постели и стал думать о Нем. Три дня продолжалась агония. Я был в странном безумии. Когда я выходил в другую комнату на несколько минут, я бормотал одно и то же: «Спаси. Спаси. Спаси». И так шли часы за часами, день и ночь, пока я не изнемог совершенно и слабость мною не овладела. Я кажется, тогда вслух сказал: «Не могу больше. Пусть…». Мать вздохнула глубоко и через минуту, долгую и мучительную, еще раз вздохнула и умерла, не приходя в сознание <…>.
II
Мои воспоминания были продиктованы мною, когда я лежал больной в швейцарском отеле, в Грионе, в 1914 году. Эти страницы, написанные рукою моей жены, я просмотрел и отчасти исправил в ноябре месяце 1917 года, будучи в Сергиевом Посаде под Москвою. Воспоминания прерываются на 1903 году. Все то, что было потом, слишком тесно и неразрывно связано с мучительным и страшным сегодня.Еще не наступил срок для воспоминаний об этих последних годах. Впрочем, внимательный и благосклонный читатель моих книг узнает из них немало того, что имеет значение общее и непреходящее в связи с историей моей жизни.
ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ
Вчера и сегодня[1181]
В Петрограде, на огромной площади, в одном из старых домов, есть подвал,[1182] и там, когда столица, утомленная буйным ветром революции, бесконечными политическими выступлениями и лихорадочною борьбою за власть, часам к одиннадцати засыпает, — там, в подвале, начинается своеобразная ночная жизнь, не похожая вовсе на жизнь советов, партий, комитетов, союзов, улицы и Зимнего Дворца.
В этом подвале живут и навещают его совсем особые люди. Правда, там бывают и случайные гости, но они приходят туда из любопытства и сидят в сторонке, недоумевая и чувствуя себя лишними. Дело, конечно, не в этих посторонних зрителях, а в той кучке поэтов, актеров, художников, которые спасаются в подвале от всероссийского потопа, как Ной[1183] в ковчеге. Спасутся ли? Да и праведны ли они, как праведен был старый Ной?