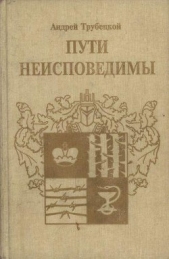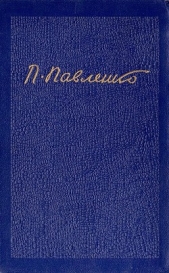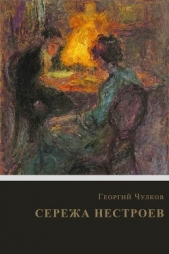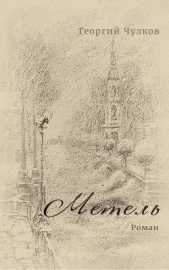Годы странствий

Годы странствий читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда мне было лет 7–8, мы жили на Остоженке, в Савеловском переулке, в доме женского Алексеевского монастыря. Летом, когда стояли жаркие, душные дни и городская жизнь лениво влачилась среди раскаленных камней, мне суждено было испытать первое нежное предчувствие влюбленности, мимолетной, но оставившей в душе что-то похожее на разочарование и горькую печаль. В нашем доме жила какая-то бывшая балерина и с нею три дочки. В младшую из них — девочку лет восьми-девяти — я влюбился. Ее звали Женей. Это было бледненькое, худенькое создание с рыжеватыми волосами до плеч, со скорбною улыбкою на тонких губах. В доме у нас она никогда не бывала. Я видел ее только в маленьком чахленьком палисаднике у нас на дворе. И как я мечтал об этих свиданиях. Она мне снилась по ночам, и утром, когда я открывал глаза, моя первая мысль была о ней. Когда мелькало ее платье под окном, я дрожал от волнения. Однажды, когда я в палисаднике сидел в игрушечных санках, в которых запряжена была картонная лошадь, пришла Женя. Я предложил ей сесть ко мне в санки. Помню, что ее близость волновала меня необычайно. Мне хотелось выразить чем-нибудь мой восторг. Я обнял ее и нежно поцеловал в висок, в рыжеватую прядь волос. Кажется, она взглянула на меня с удивлением, обличавшим ее равнодушие ко мне. Я почувствовал себя окончательно сконфуженным и уничтоженным. Моя любовь как-то вдруг сразу погасла, оставив лишь горечь на сердце.
Эта первая любовь была началом многих волнений, увлечений и разочарований.
Я выучился читать и писать, когда мне было пять лет. И с той же поры — как рассказывала мне потом моя мать, сам я этого не помню — стал я задавать старшим трудные вопросы: кто создал Бога, что бывает с человеком, когда он умрет… Мать рассказывала мне впоследствии, что я очень сердился, когда она не могла мне ответить на мои вопросы.
Кстати, расскажу об одном случае, когда все эти вечные темы я пережил однажды не рассудком, а бессознательно, в каком-то болезненном припадке. В тот миг я не рассуждал ни о Боге, ни о мире, а почувствовал всем существом своим ужас неведения и человеческую беспомощность. Случилось это вот при каких обстоятельствах.
Отец и мать поехали однажды на праздники к моему дяде, Григорию Ивановичу Чулкову[1171] в Козлов. Взяли и меня с собою. В первый же вечер, когда взрослые сидели за круглым столом в столовой и пили после ужина чай, мама повела меня в соседнюю комнату и уложила на диван спать. Я скоро заснул. Не знаю, долго ли я спал, но когда я проснулся, со мною случился тот страшный припадок, забыть который я до сих пор не могу. Я затрудняюсь сейчас объяснить тогдашнее мое состояние и чувствую, что все мои слова будут приблизительны. Проснувшись в темной комнате и увидев в полуоткрытую дверь ярко освещенную столовую, я был вдруг поражен каким-то безумием. Мне казалось, что я оторван от мира, что там, за порогом, живут люди, а что я соединиться с ними никак не могу, что я один во мраке навек. Это было предельное отчаяние. Я был парализован. Я не мог пошевелиться. Я не мог крикнуть. Я как будто на мгновение умер, как будто я предвосхитил смерть. Когда я очнулся, я страшно закричал. Ко мне бросилась мать. Принесли в комнату огонь. Стали расспрашивать меня, что со мною. Но я рыдал, и ничего, конечно, не мог объяснить.
Когда мне исполнилось 8 лет, ко мне пригласили студента Б., который должен был готовить меня в гимназию. Эти уроки не увлекли меня. Я занимался лениво и нехотя. Студент Б. был снисходителен ко мне и неизменно ставил в разграфленную тетрадку четверки и пятерки, которые должны были свидетельствовать о моих прекрасных знаниях. Года через полтора меня должны были отдать в гимназию, но тут у моих родителей возникло сомнение, не следует ли меня посвятить военной службе. Дело в том, что отец как дворянин и служивший к тому же по военному ведомству, имел возможность воспитывать меня в кадетском корпусе, за казенный счет. Мать была против кадетского корпуса, и я, разумеется, тоже. А отец склонялся к тому, чтобы я избрал военную карьеру. В один прекрасный день вопрос этот разрешился неожиданно. Отец на одной бумажке написал «Корпус», а на другой — «Гимназия». Свернув бумажки трубочками и перекрестясь, он положил их под образ Николая Чудотворца.[1172] На другой день я должен был взять одну из этих бумажек. Николай Чудотворец благословил меня на гражданскую деятельность. И весною, выдержав экзамен в первый класс классической гимназии, я уже поехал с родителями на подмосковную дачу в гимназической фуражке и чувствовал себя вступившим в новую жизнь.
Эта жизнь оказалась неприглядной и мучительной. Московская шестая классическая гимназия, в которой я проучился до седьмого класса, была едва ли не самой скверной в то время гимназией в Москве. Прекрасно было только здание, в котором она помещалась в Толмачевском переулке — белое, с дивными колоннами и с чудесною чугунной решеткой в ограде. Директором гимназии в то время был г. Р., человек, по-видимому, неумный, заика, с наружностью карикатурной и при этом находившийся в какой-то зависимости от одного из надзирателей. Этот надзиратель П., человек невежественный и циничный, распоряжался судьбою учеников по каким-то ему одному известным соображениям. О его деятельности ходили слухи самые темные. Учителя, за исключением Михаила Сергеевича Соловьева,[1173] брата философа, и еще немногих, были сухие педанты и формалисты. На уроках царствовала дикая скука. В младших классах я учился плохо. Виноваты в этом были не только педагоги, но и сам я, всегда невнимательный, рассеянный, а иногда и ленивый. В эти гимназические годы, чуть ли не с первого класса, я всегда был в кого-нибудь влюблен — тайно и безнадежно. На уроках я всегда мечтал о какой-то таинственной возлюбленной, и эти мечты не способствовали — увы! — моим успехам в науках. Впрочем, и глупая гимназическая система, особенно скверно применявшаяся в шестой гимназии, внушала мне настоящее отвращение к урокам. Когда я перешел из шестого класса в седьмой, я упросил отца взять мои бумаги из замоскворецкой гимназии и перевести меня в первую гимназию, что на Пречистенке против храма Христа Спасителя. В этой гимназии ученикам жилось вольнее и учителя не были такими педантами. И мне в ней повезло. Я сразу попал в число лучших учеников и успешно держал выпускные экзамены, получив высший балл за русское сочинение.
Но возвращусь, однако, к первым годам моей гимназической жизни. Выдержав переходные экзамены из первого во второй класс, я поехал вместе с отцом в Козлов к дяде Григорию Ивановичу.
Отец через несколько дней уехал из Козлова, оставив меня там погостить. Дядюшка мой был доктором и, как говорили тогда, талантливым. Пациентов-почитателей у него в Козлове было много, несмотря на строгий и суровый его нрав. Ко мне он был благосклонен и, кажется, любил меня. Он был умный и начитанный человек и говорил нередко, что избрал медицинскую профессию по какому-то злому случаю, а что ему надо бы было быть филологом. В самом деле, он, по-видимому, любил литературу больше всего на свете, понимал толк в языке и стиле, и мы с ним нередко, восхищаясь, читали вместе Пушкина.
У него был большой дом на Московской улице. И мне казалось тогда странным, что в доме так много комнат и все они огромные, а живут там только двое — дядя Гриша и тетя Сура.
Эта тетя Сура казалась мне тогда особой несколько странною и загадочною. Впоследствии я узнал, что у нее была болезненная склонность к вину, и только тогда я понял, почему так странно блестели ее глаза и почему она мне, мальчику, говорила неожиданные вещи. Если бы не это, пугавшее иногда меня, поведение тети Серафимы Яковлевны, мне бы жилось в доме дяди не худо. Мне нравилось бродить по большому запущенному фруктовому саду, который принадлежал дядюшке. Мне нравилось заходить в конюшню и беседовать с кучером Матвеем, прислушиваясь к влажному чавканью лошадей и сухому постукиванию копыт, мне нравилось играть с дядей Гришей в шахматы — это были мои первые уроки шахматной игры, мне нравилось выезжать на прогулку с тетей или дядей за город, в девичий монастырь, где нас угощали чем-нибудь вкусным, но особое удовольствие испытывал я тогда, когда мы вместе с дядюшкой ловили карасей в монастырском пруду. Однажды дядюшка повез меня в гости к своему знакомому, который жил в имении в верстах в пятнадцати от города. Помню, как я опьянел от жарких полей и голубого неба, под конец пути меня укачало и я заснул в углу коляски, а когда проснулся, передо мной была незнакомая бородатая физиономия. Это будил меня дядюшкин приятель. Помню, что меня весьма удивила странная обстановка этого помещичьего дома. В просторных комнатах, ничем не оклеенных, почти не было мебели, зато по стенам висело много ружей, плеток, рогов, кинжалов и разных охотничьих принадлежностей. По грязному полу бродили, стуча о пол хвостами, собаки, от которых распространялся едкий, острый запах. Дядюшка тотчас после обеда, который подавала на разбитых тарелках, миловидная, босоногая девушка, уселся с этим помещиком играть в шахматы. Я посидел недолго около их столика и после пятого хода, перестав понимать игру, соскучился и стал зевать. Заметив мою скуку, помещик пошел в другую комнату и принес оттуда толстую книжку. «Вот от этой страницы до этой можно читать, — сказал он, — а что раньше и что потом, читать нельзя». Я взял книжку и пошел в сад. Отмеченные страницы я прочел с жадностью, не отрываясь. Голова моя горела. Я был в восторге. Это была глава о Коле Красоткине и других детях из «Братьев Карамазовых» Достоевского. Когда я дочитывал последние строки, чей-то приятный голос прозвучал около самого моего уха. Я поднял глаза. Около меня сидела на скамейке Феклуша,[1174] та самая девушка, которая подавала нам обед.