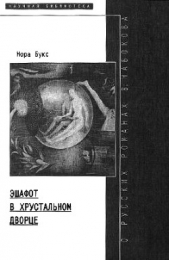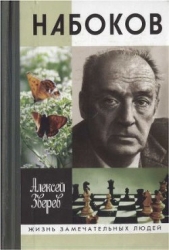Мир и Дар Владимира Набокова

Мир и Дар Владимира Набокова читать книгу онлайн
Книга "Мир и дар Владимира Набокова" является первой русской биографией писателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
К этому времени относится и одно довольно курьезное выступление на литературном вечере, где Набоков (по просьбе Габриэля Марселя, а также корысти ради) заменял какую-то венгерскую писательницу, авторшу нашумевшего романа, которая не смогла приехать по болезни и дала телеграмму лишь в последний момент. Венгерский консул, увидев Набокова, устремился к нему, чтоб выразить ему свои соболезнования, ибо принял его за мужа хворой знаменитости. Потом, узнав о замене, венгерская колония стала демонстративно покидать зал. Остались лишь те, кто догадались о замене не сразу, да еще верные друзья Набокова — Раиса Татаринова, Алданов, Бунин и Керенский. Поль и Люси Леон (сестра Набоковского дружка по Кембриджу Алекса) привели с собой Джеймса Джойса. Набоков вспоминал позднее, как утешительно блестели очки Джойса «в самой гуще венгерской футбольной команды».
Потом Набоков уехал выступать в Англию. Он выступил в русском «Обществе северян», а также читал на дому перед весьма изысканным обществом (объявление предупреждало публику, что автор очень нуждается). У него было там множество деловых встреч и переговоров, которые ничего не дали в конечном итоге. С петербургским приятелем Савелием Гринбергом Набоков съездил в Кембридж, и позднее в автобиографической книге писал, что «допустил грубую ошибку», отправившись в Кембридж не в тихо сияющий майский день, а под ледяным февральским дождем, который всего лишь напомнил ему его «старую тоску по родине». Он поведал знакомого радикала, которого в автобиографии окрестил Бомстоном, и обнаружил, что теперь, в конце тридцатых годов,
«бывшие попутчики из эстетов поносили Сталина, перед которым, впрочем, им еще предстояло умилиться в пору второй мировой войны. В свое время, в начале двадцатых годов, Бомстон по невежеству своему принимал собственный восторженный идеализм за нечто романтическое и гуманное в мерзостном ленинском режиме. Теперь, в не менее мерзостное царствование Сталина, он опять ошибался, ибо принимал количественное расширение своих знаний за какую-то качественную перемену к худшему в эволюции советской власти. Гром „чисток“, который ударил в „старых большевиков“, героев его юности, потряс Бомстона до глубины души, чего в молодости, в дни Ленина, не могли сделать с ним никакие стоны из Соловков и с Лубянки. С ужасом и отвращением он теперь произносил имена Ежова и Ягоды, но совершенно не помнил их предшественников, Урицкого и Дзержинского…»
Впрочем, унылая поездка в февральский Кембридж не прошла даром. Еще через год-полтора она нашла себе достойное место в первом английском романе Набокова.
Он вернулся простуженный. От всех невзгод и переживаний у него обострился псориаз. Однажды Набоков подсчитал (и немедленно сообщил об этом в письме Вере), что, если бы подруга Фондаминского доктор Елизавета Коган-Бернштейн не лечила его бесплатно, болезнь обошлась бы ему во много тысяч франков. В том же письме Набоков сообщает жене печальную весть: умер Илья Ильф. Трудно представить себе, пишет Набоков, его сиамского близнеца, который остался один. Русским набоковедам еще предстоит, на мой взгляд, исследовать связи набоковской прозы с произведениями русских прозаиков, живших в России, — Олеши, Зощенко, Ильфа и Петрова.
В Париже, наряду с русскими, у Набокова было теперь немало влиятельных друзей-иностранцев, вроде Жана Полана, Генри Черча и знаменитой издательницы «Улисса» Сильвии Бич.
В апреле Вере с ребенком удалось покинуть Германию. Она отправилась в Прагу. Прежде чем уехать к семье, Набокову пришлось восстановить паспорт, потом ждать чешскую визу, так что уехал он в мае. Несколько дней он провел с семьей в Праге — гуляли по старой зеленой Стромовке. Потом они с Верой уехали во Франценбад, где Вера надеялась подлечить мучавший ее ревматизм.
Набоков тайно писал письма Ирине. Он жаловался на «неизбежную вульгарность обмана», на то, что впервые чувствует себя подлецом по отношению к семье. Она писала ему до востребования на фамилию его бабушки — Корф.
Он еще раз съездил в Прагу к матери на пять дней, — тогда он и видел Елену Ивановну в последний раз. Из Праги он приехал в Мариенбад, где жили в то время Вера и Анна Фейгина, тоже, наконец, сумевшая выбраться из Германии. На вилле «Буш» в Мариенбаде Набоков и написал свой «кругленький рассказик» — «Облако, озеро, башня» — рассказ о неосуществимости мечты, о скотском конформизме тоталитарной толпы, о бегстве в безумие, о надежде на жизнь за смертью. Это один из любимых его рассказов, воистину маленький шедевр. (Недавно мне довелось слышать по радио очередную американскую трактовку этого прекрасного рассказа по Фрейду: башня — фаллос, у героя стремление обратно в утробу матери и т. д.)
В Мариенбаде они купили удешевленный железнодорожный билет для посещения Всемирной выставки в Париже, так что, добравшись в Париж, сходили и на выставку, вход на которую обрамляли два помпезных павильона — советский и германский. «Вульгарные и бессмысленные», — записал Набоков.
В Париже пробыли всего несколько дней. Набоков бегал по делам: ему все же удалось подписать договор на издание романа «Отчаяние» — с «Галлимаром». Между деловыми визитами он ухитрялся видеться с Ириной.
Потом Набоковы уехали в Канны. Эмигрантским прибежищем надолго стала для них теперь Французская Ривьера. Для вольного туриста это, конечно, не худший уголок земли, для эмигранта — лишь еще одно место изгнания. Конечно, жить на Лазурном берегу было тогда не только спокойнее, но и дешевле, чем в Париже. У них еще оставались деньги, выданные ему английским издательством. Надолго их, впрочем, хватить не могло.
В Каннах между ними произошло объяснение. Вера сказала, что раз он влюблен, он должен немедленно вернуться в Париж. Набоков колебался, писал Ирине жалобные письма. Вера больше не говорила с ним ни о чем, и он целые дни пропадал в горах.
В апреле «Современные записки» напечатали первую главу «Дара». Многим уже было ясно, что новая книга Набокова будет большим литературным событием, и Ходасевич написал в «Возрождении», что преодолевает соблазн поделиться с читателем кое-какими соображениями, но говорить о романе еще рано: публикация только началась. И все же Ходасевич отметил «огромную насыщенность, образную и стилистическую» как несомненное свойство нового романа:
«Щедрый вообще, в „Даре“ Сирин как бы решил проявить совершенную расточительность… Впрочем, эту замечательную (может быть, самую замечательную) сторону сиринского дарования вряд ли способен по достоинству оценить „широкий читатель“ и даже „широкий писатель“ нашего времени. Слишком рано еще подводить „итог“ Сирину, измерять его „величину“, но уже совершенно ясно, что, к несчастью (к нашему, а не его), сложностью своего мастерства, уровнем художественной культуры приходится он не по плечу нашей литературной эпохе. Он в равной степени чужд и советской словесности, переживающей в некотором роде пещерный период и оглашающей воздух дикими кликами торжества, когда кому-нибудь в ней удается смастерить кремневый топор, и словесности эмигрантской, подменившей традицию эпигонством и боящейся новизны пуще сквозняков».
Поразительные замечания рассыпал по своим рецензиям этот больной язвительный критик, немало на своем веку претерпевший за свое злословие (ведь если б не оклеветал он в свое время благородного М. Осоргина, то, может, и писал бы не в махровом «Возрождении», а во вполне пристойных «Последних новостях»). При намеке на сквозняки осведомленному тогдашнему читателю вспоминался, наверно, Бунин, кутавшийся в пальто посреди душного зальчика на рю Лас-Каз. Моему же сверстнику могут вспомниться здесь и «кремневые топоры» родной советской литературы, увенчанные «сталинскими премиями». А всем нам вместе — растерянность нашего «широкого писателя» во время первых московских дискуссий о разрешенном Набокове (поднялся ли он уже до уровня Проскурина или «остановился на полпути»?).
Ему выдалось тяжкое лето в Каннах, отмеченное нелегким трудом, семейными невзгодами и первыми крупными расхождениями с боготворившим его (а главное, безоговорочно печатавшим) журналом. Уже вышла первая великолепная глава романа с каскадом стилистических изысков, с воспоминаниями детства, с потоком мыслей на берлинской улице или на койке в берлинском пансионе — потоком, в котором рождались строчки новых стихов, а мы, читатели, присутствовали при их рожденье, — с удивительно смешными эмигрантскими посиделками, чтениями. Теперь нужно было срочно высылать вторую главу (а каждая из этих глав была равна по объему прежним его романам), однако Набокову захотелось вдруг переделать начало второй главы. Начало никак не поддавалось, не шло, и тогда Набоков взялся за почти готовую к печатанию четвертую главу (биография Чернышевского, написанная героем романа). Он снял квартирку напротив отеля и уселся там за работу. Подошла жара, и Набоковы жили теперь «как амфибии», деля время между домом и пляжем. Четвертая глава получилась, он был ею доволен, отослал ее Рудневу, чуть не в одиночку тащившему теперь журнал. Руднев пришел в ярость: что ж ему — давать читателю четвертую главу вместо второй? На счастье, перегруженный работой Руднев не заглянул в текст. Набоков смирился и сел за переделку второй главы.