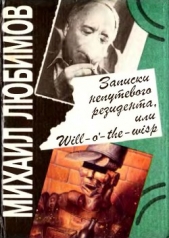Записки советского интеллектуала

Записки советского интеллектуала читать книгу онлайн
Михаил Григорьевич Рабинович (1916–2000) — известный археолог и этнограф. Публикуемые воспоминания, в которых неразрывно переплетаются лирика и юмор, отражают различные этапы жизни страны и его жизни: учеба в горно-химическом техникуме, работа мастером на руднике в годы индустриализации, учеба на историческом факультете МГУ, военная Москва, руководство раскопками в Зарядье и в Кремле, кампания борьбы с «космополитизмом», работа в Музее истории и реконструкции Москвы и в Институте этнографии. Перед читателем проходят родственники и друзья автора, известные писатели и ученые (В. Каверин, Е. Дорош, А. В. Арциховский, М. Н. Тихомиров, С. Д. Сказкин, М. Я. Гефтер и др.).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Впрочем, это не совсем так. Был случай, кажется единственный. Однажды, когда мы почему-то остались ненадолго вдвоем в его кабинете, Корней Иванович сказал мне:
— Вот и «Тараканище» опять издают [157]. Нет, я уверен, что и ваши дела теперь пойдут на лад.
Я не говорил ему никогда о «своих делах» и, признаться, не думал, что он о них знает. Но, оказывается, знал. Наверное — от Каверина.
— А разве «Тараканища» не печатали? (Я-то читал эту книгу в детстве.)
— Как же, как же! Ведь там, изволите видеть, был намек на самого Вождя!
— Какой намек?
— Ну, кто у нас «Усатый»? Неужели не знаете? А тут такие строки: «Покорилися звери усатому. Чтоб ему провалиться проклятому!» — выразительно и весело прочел Корней Иванович. — Как тут не усмотреть намека и пожелания, отнюдь не доброго? Что не печатали — полбеды, у меня всегда находилось много чего печатать. Беда была бы, если бы меня за это посадили! Но как-то до этой последней акции не дошло.
Вот и весь разговор. Тогда я не знал еще стихов Мандельштама, стоивших поэту жизни:
А Чуковский, наверное, знал, но, удивленный моим неведением, не стал уточнять.
Как-то интересно — ведь «Тараканище» написан так давно, кажется, когда еще были городовые, а стихи Мандельштама — в начале 1930-х [158]. Не оказала ли влияния на поэта детская книжка Чуковского? Может быть, как-нибудь подспудно «Кремлевский горец» ассоциировался действительно с уже известным в литературе образом усатого, злобного ничтожества — Тараканища?
Как-то шел я к Каверину, но встретил его на улице.
— Я иду к Чуковскому. Пойдемте со мной.
Конечно же я пошел.
Корней Иванович тотчас провел нас наверх, в кабинет, где высились полки со множеством книг, стояли несколько «кассет» с ящиками картотеки, ведомой, по-видимому, давно и тщательно. Все сделано из хороших сортов дерева, любовно, наверное, по особому заказу.
Вот, подумал я, и мне занятие: посмотрю хоть корешки его библиотеки.
Но хозяин даже на минуту не задержался в кабинете. Взяв с письменного стола (который был по размерам остальной обстановки чуть маловат) какую-то толстую рукопись, он провел нас на крошечный балкончик. Мне казалось, что тут не поместится даже одна огромная фигура хозяина, но Корней Иванович уютно уселся сам, усадил нас обоих, и между ним и Вениамином Александровичем еще осталось чуть-чуть свободного места.
И сразу, без лишних слов, приступил к делу, за которым и пришел Каверин. Маститый писатель (ему было тогда за шестьдесят), оказывается, дал для прочтения и дружеского рецензирования другому мэтру только что написанную им сказку. Это и была та рукопись, которую Чуковский взял со стола.
Очарование каверинских сказок чувствуют все. С этого и начал Чуковский, прибавив:
— Все же это скорее для старшего возраста. Например, почему Таня обратилась именно в сороку — понять, как следует, могут, пожалуй, родители, а не дети. Для детей нюанс здесь слишком тонок. Но надо так и оставить — ведь сказки ваши будут перечитывать и уже повзрослев. А главное — как точно, здорово вы показали, что злой волшебник — прежде всего великий завистник. Нельзя сказать, что это полностью ваше открытие — ведь еще Черномор и Наина завистники. Но у вас это поднято, выдвинуто на первый план. Особенно метко придумано, что злой волшебник пухнет от зависти, стоит показать ему транспарант «У нас все хорошо!». И вся эта линия с поясом…
Это, конечно, не стенографическая запись речи Чуковского, но некоторые выражения, кажется, запомнились мне до сих пор.
А дальше следовал разбор деталей — внимательный, я бы сказал даже — придирчивый. Но для Каверина, как мне казалось, самый ценный. Помнится, вся беседа длилась недолго — каких-нибудь полчаса. И едва она кончилась, мы ушли. Видно было, что Каверин ценит не только замечания, но и время Чуковского; никаких разговоров о здоровье домашних и тому подобных «общих мест».
Еще один переделкинский разговор о творчестве Каверина был у меня с Юлианом Григорьевичем Оксманом. Однажды оба мы оказались на даче Каверина, и после обеда, когда хозяева прилегли (и нам порекомендовали сделать то же), мы разговорились. Тогда только что вышла первая из автобиографических книг Вениамина Александровича [159]. Выяснилось, что нам обоим она нравится. Картина жизни.
— И себя самого он тоже не щадит, — сказал я между прочим. — Ведь человек, который любит своих родителей, хотя бы они были и недостойны того, производит лучшее впечатление, чем тот, кто не любит своих родителей, даже если они того достойны. А в книге чувствуется явно, что родителей автор не любит.
— Так-то так, — ответил Юлиан Григорьевич, — но Вениамину Александровичу вы этого не скажите. Ему и в самом деле мало дела до родителей, но он-то уверен, что родители были бы довольны описанием семьи, квартиры, города. И в самом деле ведь и Псков, и Петербург, и Москва тех лет как живые. Псков, конечно, особенно.
В 1956–1957 годах после известного доклада Хрущева обмен мнениями оживился. Вышла «Оттепель» Оренбурга, и ее тоже обсуждали в свете доклада — левые сочувственно, правые — агрессивно. Кто-то из правых даже напечатал стихи: он-де не ожидал от автора, «что после «Бури» [160] «Оттепель» наступит». «Оттепель» и действительно оказалась весьма короткой.
Как-то Каверины пошли к Чуковским и нас с Оксманом взяли с собой. Юлиан Григорьевич поразил тогда всех, огласив одно письмо середины прошлого столетия, в котором говорилось, что и после смерти Николая I наступило улучшение общественного климата, которое Тютчев называл «оттепелью». Народу у Чуковского в тот вечер было порядочно. Сейчас не помню, кто именно, но всё переделкинцы. Сидели и внизу, и наверху, в кабинете. А мне нужно было на поезд, и это тоже, не знаю уж как, дошло до самого хозяина. Я услышал, как Корней Иванович, спускаясь по лестнице, говорит нараспев: «Хорошо-о, я скажу-у Рабино-овичу». И сказал, что мне нечего беспокоиться: скоро поедет в Москву его сын и меня возьмет в свою машину.
Так я познакомился с Николаем Корнеевичем: Корней Иванович подвел меня к нему. Было поразительно, что Николай Чуковский еще не стар, видимо, всего на несколько лет старше меня. Седина лишь подчеркивала свежесть загорелого лица.
— Знаете, мне это удивительно потому, что в детстве я зачитывался вашей «Танталеной» (замечательной повестью про пиратов) [161]. При одном воспоминании о Шмербиусе дрожь пронимала.
— Коля, знаете ли, очень рано начал писать, можно сказать, еще в отрочестве. И, конечно, Аполлон Шмербиус — тип ужасный, устрашающий и отвратительный. Но, как видим, запоминающийся, — сказал Корней Иванович, явно довольный этим обстоятельством.
А Николай Корнеевич в ту пору уже работал над «Небом балтийским» [162], о чем, однако, распространяться не стал, и по дороге в Москву мы говорили о чем-то совсем внелитературном.
Однажды в погожий летний день я застал Вениамина Александровича в саду, что-то записывающим в толстую «общую» тетрадь с черной клеенчатой обложкой.
— Послушайте, что я сейчас записал. «Крутой маршрут» [163] — это дорога мучеников. Но надо обладать не только литературным талантом, но и многими высокими качествами человеческого характера, как обладает тем и другим Евгения Семеновна Гинзбург. (Не ручаюсь за точность, но общий смысл был таков.) Вот говорят, что наша литература какая-то безликая и трусливая. Нет, она не трусливая и совсем не безликая, а честная и мужественная, если попадаются, несмотря на преграды и запугивания, такие книги.