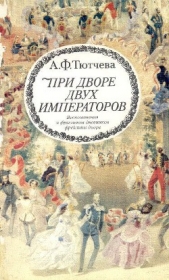Из дневников. 20-30-е годы

Из дневников. 20-30-е годы читать книгу онлайн
Февральский номер «ИЛ» открывают дневники классика английской литературы XX века Ивлина Во
(1903–1966).
«Начинает Во вести дневник, —пишет во вступительной статье переводчик Александр Ливергант, — …с младших классов школы, и ведет его… порой со значительными перерывами почти до самой смерти. Мы же приводим фрагменты из его „Дневников“ до начала Второй мировой войны». Вероятно, читатели, знакомые со складом ума и слогом Ивлина Во, узнают льва по когтям и в беглых дневниковых записях: «…валлийцы настолько хорошо воспитаны, что на вопрос: „Эта дорога на Лльянддулас?“ — всегда отвечают утвердительно»; или: «У леди Н. густая борода, лысая собака, пьяный муж и педераст сын…»— знакомый по художественным произведениям И. Во трагикомический бедлам. А некоторые досужие разговоры, взятые автором на карандаш, заставляют лишний раз подивиться неизбывному людскому легкомыслию: 1 ноября 1939 года:
«Говорят: „В прошлую войну генералы усвоили урок, поэтому массовой резни не будет“…»Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
<…> На днях произошел забавный случай, лишний раз подтвердивший, какая у меня в колледже репутация. Ректор отозвал меня из зала, чтобы расспросить о моих премиях и узнать, написал ли я некролог памяти Перси Бейтса [61]. Лондж поинтересовался, что случилось, и я ответил, что меня выгоняют за аморалку. Он, естественно, не поверил, однако не преминул сообщить об этом Дэвису, и тот, приняв сказанное за чистую монету, сообщил о случившемся не только старшеклассникам, но и вообще всему колледжу. «Я, если честно, нисколько не удивился, ожидал, что нечто подобное рано или поздно произойдет». В результате, последние несколько дней ко мне то и дело подходят соученики со словами сочувствия: «Да, не повезло, старик. И с кем же ты спутался?» Многие поверили, Кэрью в том числе. Мне-то, разумеется, наплевать, просто забавно, ведь жизнь я здесь веду поистине праведную, если не считать, конечно, разговоров. А впрочем, я давно заметил: тот, кто избегает дурных слов, способен на дурные дела.
Через три недели, если только я не провалился, мне станут известны результаты экзаменов на стипендию.
Из нашей жизни, мне кажется, ушло главное — дружба. Никто, по-моему, не заводит больше настоящих друзей — об увлечениях я не говорю. Если дружба и сохраняется, то единственно в нашей памяти.
Сегодня вечером — стоя, как всегда, на коврике перед камином — Кэрью излил мне душу. Теперь я понимаю: с моей стороны было ошибкой пытаться переделать своих друзей под себя.
Сегодня утром в 9.30 сдавал общий экзамен. Мне он понравился — как, впрочем, и всем остальным. Всего сдающих собралось человек пятьдесят-шестьдесят: все как один — разбойники с большой дороги, но разбойники-интеллектуалы. Я отвечал на четыре вопроса. Первый — моя любимая биография. Я выбрал «Бердслея» Артура Саймонса [62]и написал вроде бы неплохо, во всяком случае, довольно живо. Затем, сильно рискуя, ответил на вопрос: «Внес ли XIX век свой оригинальный вклад в живопись и архитектуру?» Исписал страниц пять — в общем, остался собой доволен. Затем последовал каверзный вопрос о Таците — является ли он самым «актуальным» античным автором, а также вопрос о том, «существуют ли темы, совершенно не пригодные для поэзии». На последний вопрос ответ я дал довольно расплывчатый, вылившийся в панегирик Руперту Бруку [63]. В целом же, думаю, впечатление я произвел благоприятное.
С переводом с листа Ливия я справился, но не более того — впрочем, это ведь еще только предварительный экзамен. Сегодня вечером переводим с французского — и тоже с листа. Вот где будет комедия! А завтра начнется самое серьезное: английская история и эссе.
Прошлая неделя выдалась самой в моей жизни счастливой. Как я сдал экзамен, мне, правда, пока неизвестно. Не буду удивлен, если я получил положительный балл, или огорчен, если провалился. Французский текст я переводил лучше, чем ожидал, а английскую историю ответил и вовсе неплохо. Мне попались английская Реформация и младший Питт [64]. Хуже всего получилось эссе — тяжеловесное, многословное, претенциозное. Viva [65]сдал превосходно. Гоняли меня по сельскому хозяйству XVIII века, но при этом были со мной очень обходительны, я же, по-моему, — умен. <…>
Сегодня утром, спустившись к завтраку, обнаружил на столе два письма из Оксфорда. Одно — официальное, где сообщалось, что я получил Хартфордскую стипендию [66]в сто фунтов. Другое — частное, в котором содержалось поздравление от проректора [67]. Нельзя сказать, чтобы оно меня очень уж порадовало. Сей милый человек писал, что стипендии я удостоен главным образом за умение хорошо писать по-английски и что общий экзамен и английскую историю я сдал лучше всех, а европейскую — хуже всех.
Очень унылый день тут же превратился в самый радужный. Все меня от души поздравляли. Брент-Смит написал мне письмо. Лучше всего то, что теперь я могу уйти с чистой совестью. Сто фунтов на земле не валяются. <…>
Один из самых трогательных комплиментов сделала мне миссис Невилл-Смит, с которой я ни разу раньше не разговаривал. Мы встретились вечером на лестнице. «Поздравляю вас со стипендией, Во. Теперь вы можете, я полагаю, немножко расслабиться. И все остальные — тоже». <…>
Двадцатые годы [68]
В двенадцать ночи, если память мне не изменяет, оказался в комнате бедного Майкла Лерой-Болье в Бейллиоле [69]. Большую часть вечера он провел в слезах — его до смерти напугал Питер, разбив у него на глазах тарелку. Народу набилось столько, что дышать было нечем. После двенадцати остались только выпускники Бейллиола — мертвецки пьяные. Пирса Синотта уложили в постель, и около часа ночи Бенуа и Патрик Балфур спустили меня на веревке из комнаты Ричарда. Выбрался через туалеты в Нью-Куод, что не могло не сказаться на состоянии моего костюма, и проспал несколько часов.
После безумного утра, чехарды бутылочных этикеток и таксомоторов, в 1.45 очутились в вагоне-ресторане [70], за соседним столиком — бедный Брайен Хауард [71]. Ничего съедобного, кроме хлеба с сыром, не нашлось, зато выпили шерри, шампанского, много чего еще покрепче, выкурили по сигаре — и вышли на Паддингтонском вокзале с твердым ощущением, что перекусили отлично.
Родители в прекрасной форме. Отец с увлечением рассказывает, где они побывали во Франции; обнаружил непристойность на гобелене в Байё, отчего пришел в восторг.
<…> Заказал себе новую трость — главное событие первой половины дня. Хотелось по возможности приобрести похожую на старую, но другой такой красавицы не нашлось, да и неприлично было бы ходить с точно такой же. Та, которую я выбрал, — тоже из английского дуба, но полегче и подлиннее. На набалдашнике маленькая золотая пластинка размером с шиллинг с выбитыми на ней моими именем и гербом. Будет, думаю, иметь успех. Дома меня ждала телеграмма от Аластера [72]: звал поужинать в «Превитали». Отменно поели и отправились, заходя по пути в пабы, на набережную, а потом тем же путем обратно в «Кафе Ройял». <…>
Ничего, сколько помню, не делал.
Ходили с Аластером в эмигрантскую церковь на Бэкингем-Пэлес-роуд. Русская служба понравилась необычайно. Священники скрывались в маленькой комнатке и изредка появлялись в окнах и дверях, точно кукушка в часах. Им принесли огромное блюдо сдобных булок и привели целый выводок маленьких детей. Все это время хор, тоже где-то припрятанный, распевал что-то заунывное. Длилась служба бесконечно долго. В одиннадцать, когда мы пришли, она уже была в самом разгаре, а в 12.30, когда уходили, конца еще не было видно. Собравшиеся — в основном изгнанные из России великие князья и странного вида жалкие женщины, якобы любовницы императора, — молились с большим чувством. Мне запомнился бедный старик в изношенной офицерской шинели. <…>