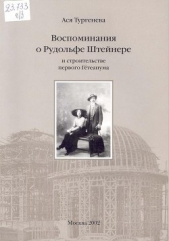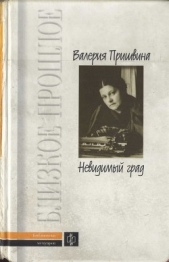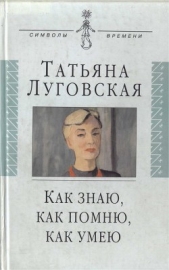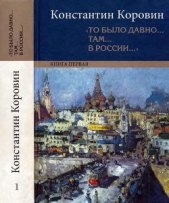Зеленая Змея. История одной жизни

Зеленая Змея. История одной жизни читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Эти месяцы болезни, несмотря на окружавшую меня нищету и разорение, принадлежат к счастливейшим в моей жизни. Когда я опять могла поднимать голову, я видела через большое окно, у которого стояла моя кровать, засыпанный снегом парк и столетние липы. По ночам, особенно на Рождество, звезды, светившие сквозь ветки, казались неправдоподобно живыми и большими; и я благодарно чувствовала, как они меня возносят. "Звезды — обитель духовных существ, а свет — лишь их манифестация". И я чувствовала: что бы ни случилось, даже если падешь в бездну, — падешь в их руки.
Никто из родных и знакомых меня не посещал. Я знала, что у них просто не было сил пешком идти через весь город. Я не получала продуктовых передач, как другие больные, и все же должна была благодарить судьбу, что я могла здесь лежать. Однажды пришла Нюша. Она говорила так тихо, что я подумала — не оглохла ли я? Глухота могла быть следствием сыпного тифа. Но нет — ее голос был так слаб просто от истощения. Мое радостное настроение передавалось другим, и наша комната стала своего рода "кают-компанией" для сестер, свободных от дежурства. Мне некогда было самой отдыхать после болезни, так много приходилось постоянно рассказывать, декламировать, напевать. Даже по ночам, когда кругом больные спали или метались в бреду, меня навещали ночные сестры. Однажды — это было на Рождество — ко мне ночью подошел дежурный врач и я узнала в нем друга нашего детства; еще в нашей большой зале в доме на Никитской он вместе с нами брал уроки танцев у француза-балетмейстера. Его фамилия — Пестель, он был потомком знаменитого декабриста Пестеля. Он рассказал мне свою жизнь, свои переживания на фронте. С бессовестностью царских генералов и офицеров он не мог мириться, но и бессовестность теперешних правителей была ему невыносима. В этом враче — ему было, вероятно, около тридцати трех лет — я встретила душу глубокую и честную и — хотя в жилах его не было ни капли русской крови — такой подлинный русский патриотизм, какой и среди русских не часто встречаешь. Он был в совершенном отчаянии. "Как можно дальше жить, — сказал он, — если для тебя долг, правда и честь еще что-то значат?" Я тщетно пыталась пробудить в нем доверие к благим водителям бытия. Он охотно продолжал бы разговор, но, как врач, не хотел дольше оставаться у меня, так как мне надо было побольше спать. "Завтра мы еще поговорим", — сказала я. — "У меня только сегодня ночное дежурство". — "Ну так мы увидимся, когда я выздоровлю". Позднее я узнала, что через несколько дней, после нашей встречи он покончил с собой. До сих пор я чувствую свою вину перед ним, потому что не сумела ему помочь.
В новогоднюю полночь главный врач Марциновский пришел ко мне с двумя бокалами шампанского. Его жена была больна тифом и в тяжелом состоянии, без сознания, лежала в отдельной палате рядом с нами. Вокруг спали или бредили больные. Если этот человек не лишил себя жизни, то только потому, что его поддерживало призвание врача. Я знала, что он изобретал различные сыворотки и все их с опасностью для жизни испытывал на себе. Позднее, когда я снова могла ходить, я каждый день видела, как он перевязывал раны. Из-за отсутствия дезинфицирующих средств у многих больных от уколов получалось заражение крови, так что приходилось иногда прибегать к ампутации. Когда я видела эту прямую высокую фигуру на коленях, склоненную над больным, я вспоминала Юлиана Милостивого: такая любовь светилась во всех его движениях.
Этот наш серьезный разговор в новогоднюю ночь был первым и последним. Эпохи катастроф прекрасны тем, что люди как бы вырываются из-под власти преходящего и душа встречается с душой так, как это вообще возможно, вероятно, только после смерти.
"Теперь мне, видно, надо уйти", — сказала я Марциновскому, когда оправилась после длительного паралича ног — последствия тифа — и снова могла ходить, — "А что ждет Вас там?" — "Нетопленная комната без ухода и помощи", — "С Вашим расширением сердца Вам нельзя двигаться, оставайтесь еще у нас". Видит Бог — как охотно я бы так и поступила! Но ведь эпидемия тифа все еще продолжалась. Больные лежали у нас в коридорах на полу, и было бы просто бессовестно занимать еще койку. Так пришлось ему меня выписать. Мне это тоже было нелегко, и санитар, провожавший меня и несший мой чемоданчик через всю Москву, казался мне последним ангелом из рая.
Когда я в виде "шатающейся фигуры" появилась у родителей, их жилье походило на ночлежку. На веревках, протянутых через всю комнату, в дымном воздухе сушилось белье. На диване лежал брат, без сознания, с воспалением легких. Врач, лечивший его, уже несколько дней не приходил, а брату становилось все хуже. Так как родители были слишком слабы и истощены, то мне пришлось немедленно отправиться за врачом. Дверь открыла заплаканная горничная: "Наш барин, доктор, вчера умер от тифа". Недалеко от нас помещалась больница Красного Креста. Я пошла туда. Старшая сестра, показавшаяся мне очень благовоспитанной дамой, сообщила, что их больницу власти собираются закрыть. Затем она спросила: "Вы имеете какое-нибудь отношение к Красному Кресту?" Я сказала "Уместно ли при большевистской власти сослаться на генерала Джунковского, бывшего председателя Общества Красного Креста? Мы с ним очень дружны". Все лица разом просветлели. "Наш врач сегодня же посмотрит Вашего брата, а завтра утром Вы привезите его сюда". Утром два дворника вынесли закутанного Алешу из квартиры. Его посадили на маленькие извозчичьи санки, я села рядом и с величайшим трудом его поддерживала. Лошадь оказалась пугливой, и, когда навстречу попадался автомобиль, — к счастью, в то время в Москве их было мало, — она бросалась в сторону, натыкаясь на высокие сугробы; в ту особенно холодную и снежную зиму снег не убирали и сугробы громоздились по обеим сторонам улицы. При каждом толчке больной стонал, а санки ежеминутно грозили опрокинуться. Перед дверью больницы пришлось прислонить больного к спине кучера, державшего лошадь, пока я ходила за сестрой. Если мы оба, несмотря на все это, выздоровели, то, верно, потому, что так надо было.
Еще химеры
После этого "вынужденного антракта" я снова принялась за поиски работы и получила предложение, обернувшееся для меня еще одной, четвертой, химерой. Нужно было быть очень подверженной иллюзиям, чтобы верить, как я тогда, что можно найти осмысленную работу в это хаотическое время, когда все старые традиции выброшены за борт, а идей, основанных на новом познании законов жизни и могущих поэтому вести к новой практике, — таких идей не было. Вместо того на основании односторонних ложных теорий попирались священнейшие законы жизни.
В знаменитом дворце князя Голицына, в двух часах езды от Москвы, народный комиссар просвещения Луначарский учредил школу для художественно одаренных детей. Специальная комиссия из нескольких сотен художественно одаренных детей-сирот в фабричных центрах Московской области отобрала самых "гениальных", и эта элита — сорок детей — была собрана в Голицынском дворце. Заведовал школой делец с большим семейством, не имевший никакого отношения ни к педагогике, ни к искусству. Он добивался этой должности, надеясь в деревенской местности спасти себя и своих детей от голода. С той же целью пришел сюда один известный художник и прочий учительский персонал. Каждая семья ютилась в одном из бесчисленных помещений дворца и вела там свою особую жизнь, не слишком заботясь о сорока сиротах. Эти "педагоги" были принципиальными сторонниками "свободного" воспитания. Дети могли делать, что хотели. Я спала внизу, рядом с детскими спальнями. Хотя я была приглашена только для обучения детей живописи, я все же пыталась внести в этот хаос какой-нибудь порядок. Водопровод во дворце не действовал, воду мы привозили сами в бочке, запрягая для этого хромую лошадку. С наступлением холодов оказалось, что отопления тоже нет; мы собирали хворост и немножко отогревались у камина. Пища месяцами состояла только из чечевицы и червивой селедки; подавалась она частью в собачьих мисках, а частью — в тарелках севрского фарфора из Голицынского дворца.