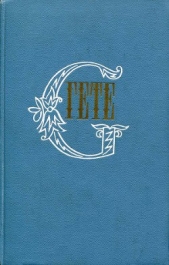Разговоры с Гете в последние годы его жизни
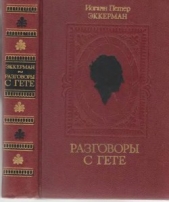
Разговоры с Гете в последние годы его жизни читать книгу онлайн
Многолетний секретарь Иоганна Вольганга Гёте Иоганн Петер Эккерман (1792–1854) долгие годы вёл подробнейшую запись своих бесед с великим немецким поэтом и мыслителем. Они стали ценнейшим источником для изучения личности Гёте и его взглядов на жизнь и литературу, историю и политику, философию и искусство. Книга Иоганна Эккермана позволяет нам увидеть Гёте вблизи, послушать его, как если бы мы сидели рядом с ним. В тоже время, Эккерман не попадает в ловушку лести и угодничества. Его работа отмечена желанием быть как можно более объективным к великому современнику и в тоже самое время глубокой теплотой искренней любви к нему…
Широкий охват тем, интересовавших Гёте, добросовестность и тщательность Эккермана помноженные на его редкостное литературное мастерство, сделали эту книгу настоящим памятником мировой культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Мы точно женщины, — вдруг заметил он, — рожая, каждая клянется никогда больше не спать с мужем, а не успеешь глазом моргнуть, как она уже опять брюхата.
О четвертой части своего жизнеописания и о том, как он намеревается над нею работать, говорит, что мои заметки от 1824 года относительно уже сделанного и намеченного окажут ему изрядную услугу.
Читал мне вслух из дневника Гёттлинга места, где с большой любовью говорится о венских учителях фехтования былого времени. Гёте очень хорошо отзывался о Гёттлинге.
— Среди моих бумаг я нашел листок, — сказал Гёте, — где я называю зодчество «застывшей музыкой». Право, это неплохо сказано. Настроение, создаваемое зодчеством, сродни воздействию музыки.
Роскошные здания и роскошные палаты — это для властителей и богачей. Те, кто живет в них, чувствуют себя успокоенными, удовлетворенными и ничего более не желают.
Моей природе такая жизнь противопоказана. В роскошном доме, вроде того, что мне отвели в Карлсбаде, я мигом становлюсь ленивым и бездеятельным. И, напротив, тесные комнатушки, как вот эта, в которой мы сидим, упорядоченно-беспорядочные, немного богемистые, — вот то, что мне нужно; они предоставляют полную свободу действий моей внутренней природе, в них я работаю и творю, как мне заблагорассудится.
Мы заговорили о письмах Шиллера, о жизни, которую оба они вели, ежедневно подстегивая и побуждая друг друга к работе.
— Ведь Шиллер, насколько мне известно, — сказал я, — с огромным интересом относился к «Фаусту». И как же это прекрасно, что он не давал вам ни отдыха, ни срока и даже сам, преданный своей идее, многое изобретал и придумывал для «Фауста». — И я добавил, что в натуре Шиллера, видимо, вообще была известная торопливость.
— Вы правы, — сказал Гёте, — это было ему свойственно, как, впрочем, всем, для кого главное — поскорее реализовать свою идею. Он не знал покоя и ни на чем не мог остановиться, как вы с легкостью заключите по его письмам о «Вильгельме Мейстере», которого он хотел видеть то таким, то эдаким. Мне приходилось быть очень стойким, чтобы оградить как его произведения, так и свои от этих внезапных озарений.
— Нынче утром, — сказал я, — я читал «Надовесский похоронный плач», радуясь и дивясь этому чудному стихотворению.
— Вы сами видите, — отвечал Гёте, — каким великим художником был Шиллер и как он умел постигнуть объективное, если оно являлось ему в конкретной форме предания. «Надовесский плач», несомненно, принадлежит к лучшим его стихотворениям, и я был бы счастлив, наберись у него таких с дюжину. Сейчас трудно себе представить, что даже ближайшие друзья корили за него Шиллера, считая, что здесь недостаточно проявился его идеализм. Да, дорогой мой, чего только не претерпеваешь от друзей! Порицал же Гумбольдт мою «Доротею» за то, что, когда напали враги, она схватила оружие и ринулась на них! А ведь без этого весь характер удивительной девушки, сложившийся в ту эпоху и при тех обстоятельствах, был бы изничтожен и она ничем бы уже не отличалась от своих ничем не замечательных сверстниц. Но в дальнейшей жизни вы еще не раз убедитесь; люди редко в состоянии понять, как и что должно быть сделано, и чаще всего хвалят и хотят читать то, что им по плечу. А те друзья еще были лучшими, наиболее близкими; представьте же себе, каково было мнение толпы и в каком одиночестве мы пребываем всегда.
Не будь у меня надежного фундамента, то есть изобразительных искусств и занятий естественными науками, я бы с трудом удержался на поверхности, ежедневно испытывая на себе воздействие недоброго нашего времени, но это меня защитило, я же, в свою очередь, постарался поддержать Шиллера.
— Чем выше поставлен человек, — сказал Гёте, — тем больше он подвластен влиянию демонов, ему надо постоянно следить за тем, чтобы воля, им руководящая, не сбилась с прямого пути.
Так, демонические силы, несомненно, проявились при моем знакомстве с Шиллером, оно могло произойти и раньше, могло и позже, но то, что мы встретились, когда мое итальянское путешествие уже осталось позади, а Шиллер начал уставать от своих философских спекуляций, было знаменательно для нас обоих.
— Сейчас я вам открою политический секрет, — сказал Гёте за обедом, — который в недалеком будущем все равно выплывет на свет божий, Каподистрия не может надолго удержаться во главе греческого правительства, ибо ему недостает качества, необходимейшего для этого поста: он не солдат. Мы не знаем ни одного примера, чтобы сугубо штатский человек сумел организовать революционное государство и подчинить себе полководцев. С саблей в руке, во главе армии можно повелевать и устанавливать законы, ибо ты уверен во всеобщем повиновении, иначе попадешь впросак. Если бы Наполеон не был солдатом, никогда бы ему не достигнуть высшей власти; Каподистрия не сможет долго отстаивать себя и принужден будет удовольствоваться второстепенной ролью. Я вам это предсказываю, и вы увидите, что так оно и будет: это в природе вещей, события не могут обернуться иначе.
Затем Гёте много говорил о французах, главным образом о Кузене, Виллемене и Гизо.
— Всех троих, — сказал он, — отличает удивительная проницательность, проникновенность и меткость взглядов. Безупречное знание прошлого сочетается в них с духом девятнадцатого столетия, почему они иной раз и творят чудеса.
После французских историков заговорили о французских поэтах и о понятиях классика и романтика.
— Мне пришло на ум, — сказал Гёте, — новое обозначение, которое, кажется, неплохо характеризует соотношение этих понятий. Классическое я называю здоровым, а романтическое больным. И с этой точки зрения «Нибелунги» такая же классика, как Гомер, тут и там здоровье и ясный разум. Большинство новейших произведений романтично не потому, что они новы, а потому, что слабы, хилы и болезненны, древнее же классично не потому, что старо, а потому, что оно сильно, свежо, радостно и здорово. Если мы станем по этим признакам различать классическое и романтическое, то вскоре все станет на свои места.
Разговор зашел об аресте Беранже. [63]
— Он получил по заслугам, — сказал Гёте. — Его последние стихотворения просто разнузданны, вот и пришлось ему расплатиться за свои прегрешения перед королем, государством и мирными жителями. Прежние его песни, напротив, веселы, безобидны и словно созданы для того, чтобы их распевали в кругу счастливых людей, а это, пожалуй, лучшее, что можно сказать о песнях.
— Я уверен, что на Беранже повлияло его окружение, — заметил я, — и что он в угоду своим революционно настроенным друзьям сказал многое, от чего без них бы воздержался. Вашему превосходительству следовало бы осуществить свое намерение и написать историю влияний. Чем больше размышляешь, тем обширнее и содержательнее кажется эта тема.
— Она, пожалуй, слишком содержательна, — сказал Гёте, — ибо в конце-то концов влияние — это все за исключением нас самих.
— Но ведь главное, — продолжал я, — полезно ли это влияние или, напротив, вредно, иными словами — сообразно оно с нашей природой и, следовательно, благотворно или же противно ей.
— Разумеется, — согласился Гёте, — к этому все сводится. Но уберечь лучшую сторону нашей природы от засилия демонов — вот что трудно.
Во время десерта Гёте велел принести и поставить на стол цветущий лавровый куст и какое-то японское растение. Я сказал, что оба растения воздействуют по-разному: лавр успокаивает душу, веселит и ласкает ее, а японский цветок, напротив, ее печалит и огрубляет.
— В общем-то вы правы, — сказал Гёте, — поэтому, вероятно, и считается, что растительный мир страны влияет на душевный склад ее обитателей. И, конечно, тот, кто всю жизнь живет среди могучих, суровых дубов, становится иным человеком, чем тот, кто ежедневно прогуливается в прозрачных березовых рощах. Надо только помнить, что не все люди столь чувствительны, как мы с вами, и что они крепко стоят на ногах, не давая внешним впечатлениям возобладать над ними. Мы знаем точно, что помимо врожденных и расовых свойств характер народа складывается в прямой зависимости от почвы и климата, от пищи и занятий. Надо также помнить, что первобытные племена в большинстве случаев селились на землях, которые нравились им, то есть где сама местность гармонировала с врожденным характером племени.