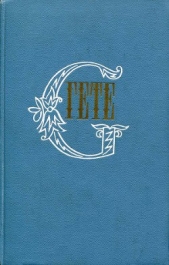Разговоры с Гете в последние годы его жизни
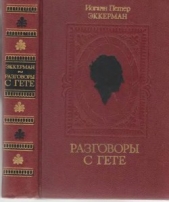
Разговоры с Гете в последние годы его жизни читать книгу онлайн
Многолетний секретарь Иоганна Вольганга Гёте Иоганн Петер Эккерман (1792–1854) долгие годы вёл подробнейшую запись своих бесед с великим немецким поэтом и мыслителем. Они стали ценнейшим источником для изучения личности Гёте и его взглядов на жизнь и литературу, историю и политику, философию и искусство. Книга Иоганна Эккермана позволяет нам увидеть Гёте вблизи, послушать его, как если бы мы сидели рядом с ним. В тоже время, Эккерман не попадает в ловушку лести и угодничества. Его работа отмечена желанием быть как можно более объективным к великому современнику и в тоже самое время глубокой теплотой искренней любви к нему…
Широкий охват тем, интересовавших Гёте, добросовестность и тщательность Эккермана помноженные на его редкостное литературное мастерство, сделали эту книгу настоящим памятником мировой культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Высшее, чего может достигнуть человек, — заметил Гёте по этому поводу, — изумление. Ежели прафеномен повергнул его в изумление, он должен быть доволен, ничего более высокого увидеть ему не дано, а искать дальнейшего не имеет смысла — это граница. Но люди обычно не удовлетворяются содержанием прафеномена, им подавай то, что кроется за ним, и в этом они похожи на детей, что, глянув в зеркало, тотчас же переворачивают его — посмотреть, что там с другой стороны.
Разговор перешел на Мерка, я спросил, занимался ли и он естественными науками.
— О да, — отвечал Гёте, — у него имелись даже весьма примечательные естественноисторические коллекции. Мерк был вообще человеком необычайно разносторонним. Искусство он тоже любил и в своей любви заходил так далеко, что, видя, какое-нибудь значительное произведение в руках филистера, который, как он считал, не мог по достоинству оценить его, ничем не брезговал, чтобы заполучить таковое в свою коллекцию. Тут уж он начисто не помнил о совести, любое средство было для него хорошо, он не останавливался даже перед прямым надувательством, если уж ничего другого не оставалось. — И Гёте рассказал несколько забавных случаев из жизни Мерка.
— Такой человек, — продолжал он, — теперь уже не может появиться на свет, а если бы и появился, к нему отнеслись бы совсем по-другому. Да, в хорошее время мы были молоды с Мерком. Немецкая литература еще оставалась чистым листом бумаги, на котором мы мечтали и надеялись написать много хорошего. Теперь этот лист до того исчеркан и измаран, что разумный человек не знает, куда еще можно что-то пристроить.
Обедал вдвоем с Гёте в его кабинете. Он был очень оживлен и утверждал, что день у него выдался на редкость удачный и что он, к удовольствию двора, покончил дело с Артариа.
Засим мы долго говорили об «Эгмонте», которого давали накануне в обработке Шиллера, не умолчав и об известном ущербе, понесенном пьесой от этой редакции.
— Мне представляется во многих отношениях неудачным, — сказал я, — устранение правительницы, она здесь — необходимое действующее лицо. Дело даже не в том, что благодаря ей целое становится возвышеннее и благороднее, но и политические обстоятельства, — в первую очередь все касающееся испанского двора, — яснее, решительнее выступают в ее диалогах с Макиавелли.
— Без всякого сомнения, — согласился Гёте, — да и сам Эгмонт становится значительнее от того света, которым его озаряет благоволение правительницы. Клерхен тоже выигрывает в наших глазах тем, что, выдержав соперничество столь высокопоставленной особы, всецело владеет любовью Эгмонта. Все это черты весьма деликатного свойства, и, чтобы не нарушить целого, их лучше бы не трогать.
— И еще одно, — сказал я, — мне думается, что среди много численных и ярких мужских ролей единственная женская роль — Клерхен — выглядит несколько расплывчатой. Правительница сообщает известное равновесие всей картине, и хотя в пьесе о ней и упоминают, этого недостаточно, впечатление производит только персонаж, присутствующий на сцене.
— Вы совершенно правильно оценили положение, — сказал Гёте. — Когда я писал «Эгмонта», я, разумеется, тщательно все взвесил, так что целое изрядно пострадало, когда из него вырвали одно из главных действующих лиц, задуманных как его неотъемлемая со ставная часть. Но Шиллер был решителен, скор на руку и нередко действовал согласно своей предвзятой идее, без достаточного уважения к предмету, который брался обрабатывать.
— Но ведь и вы были неправы, — отвечал я, — что снесли это и в таком, безусловно, важном случае предоставили ему неограниченную свободу действий.
— Увы, мы часто бываем не столько снисходительными, сколько равнодушными, — отвечал Гёте, — к тому же я в ту пору был поглощен совсем другим, ни «Эгмонт», ни театр меня не интересовали, вот я это и допустил. Теперь мне остается утешаться тем, что пьеса напечатана в первоначальном виде и что нашлись театры достаточно разумные, чтобы ставить ее без сокращений, такою, какой я ее написал.
Затем Гёте спросил, думал ли я над его предложением — вкратце изложить «Учение о цвете». Я сказал, как у меня с этим обстоит, и между нами неожиданно возникло разногласие, о котором, ввиду важности предмета, я и хочу рассказать здесь.
Всякий, кто наблюдал такое явление, вспомнит, что в солнечные зимние дни мы часто видим на снегу синие тени. Это явление Гёте в своем «Учении о цвете» определяет как субъективный феномен, основываясь на том, что солнечный свет — поскольку мы живем не на горных вершинах — доходит до нас не абсолютно белым, но, пробившись через больше или меньше наполненную парами атмосферу, приобретает желтоватый оттенок, а значит, освещенный солнцем снег представляет собою не чисто белую, но желтоватую поверхность, которая провоцирует наш глаз на некое противопоставление, то есть на порождение синего цвета. Тем самым синяя тень является затребованным цветом; под этим углом Гёте рассматривает данный феномен и, взяв его за исходную точку, весьма последовательно толкует наблюдения, сделанные Соссюром на Монблане.
Намедни, когда я перечитывал первые главы «Учения о цвете», дабы проверить, справлюсь ли я с дружески предложенной мне Гёте работой — вкратце изложить это учение, мне, поскольку день стоял солнечный и выпало много снегу, представилась оказия еще раз ближе присмотреться к упомянутому феномену, и тут я с изумлением убедился, что вывод, сделанный Гёте, ошибочен. О том, как я пришел к этому выводу, я и хочу сейчас поведать.
Из окон моей гостиной, выходящих на юг, виден сад, ограниченный зданием, которое зимой, при низком солнцестоянии, отбрасывает по направлению к моему дому огромную тень, покрывающую добрую половину сада.
Несколько дней назад при солнце, сияющем на ясном небе, я глянул на эту затененную и заснеженную поверхность и с удивлением отметил, что вся она кажется мне синей. «Затребованным» цветом, сказал я себе, это быть не может, ибо взгляд мой не достигает какой-либо снежной поверхности, которая могла бы вызвать этот контраст; я не вижу ничего, кроме синей затененной массы. Боясь, однако, впасть в ошибку, — а вдруг мне в глаза попадает слепящий отсвет соседних крыш, — я скатал лист бумаги и через эту трубку стал смотреть на тень, по-прежнему остававшуюся синей.
Теперь я уже с полной несомненностью знал, что синяя тень не была субъективной. Цвет существовал самостоятельно, вне меня, я не имел на него ни малейшего субъективного влияния. Что же это, спрашивается, такое? И раз эта синева есть, чем она могла быть вызвана?
Я еще раз посмотрел в окно, огляделся кругом, и разгадка напросилась сама собой. Это не что иное, сказал я себе, как отражение синего неба, тень притягивает отражение к себе, а оно стремится осесть в тени. Ведь сказано же, цвет сродни тени, он по малейшему поводу сочетается с нею и охотно в ней или через нее проявляется.
Последующие дни дали мне возможность убедиться в правильности моей гипотезы. Я шел по полю, небо не было синим, солнце светило как сквозь туман или дымовую завесу, на снег ложился явственный желтый отсвет, достаточно сильный, чтобы отбрасывать четкие тени, и в этом случае, согласно учению Гёте, должна была возникнуть яркая синева. Но она не возникла, тени оставались серыми.
Назавтра утро было пасмурное, хотя солнце время от времени проглядывало сквозь тучи, отбрасывая на снег четкие тени. Но и они были не синими, а серыми. В обоих случаях отсутствовало отражение синевы неба, которое сообщало бы теням свою окраску.
Таким образом, я проникся убеждением, что объяснение Гёте данного феномена не подтверждается природой и что параграфы его «Учения», трактующие этот вопрос, нуждаются в основательной переработке.
Нечто сходное произошло затем и с окрашенными двойными тенями от свечи, которые хорошо наблюдать на рассвете, под вечер, когда начинает смеркаться и, всего лучше, при сиянии луны. О том, что в данном случае одна тень, а именно желтая, освещенная огоньком свечи, несомненно, являясь объективной, относится к учению о мутных средах, Гёте не упомянул вовсе, хоть это и бесспорно. Другую же, голубоватую, вернее, голубовато-зеленую, при слабом сумеречном или лунном свете, он признает субъективной, то есть обособленным цветом, который вызван в нашем глазу желтым отсветом свечи на листе белой бумаги.