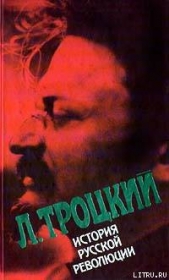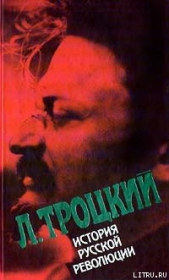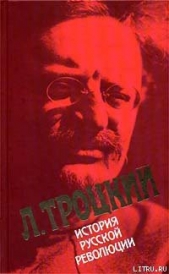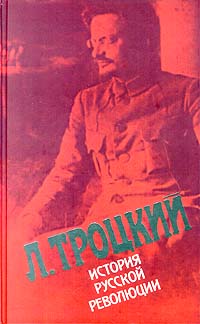Записки уцелевшего

Записки уцелевшего читать книгу онлайн
Это произведение — плод творчества многих лет писателя Сергея Голицына, одного из представителей знаменитого княжеского рода Голицыных.
Удивительная память Сергея Голицына возвращает читателям из небытия имена сотен людей, так или иначе связанных с древним родом.
Русский Север, Волга, Беломорстрой — такова неполная география «Записок» картины страшной жизни Москвы второй половины 20-х годов, разгул сталинских репрессий 30-х годов.
Воспоминания правдивы, основаны на личных впечатлениях автора и документах тех далеких лет, наполнены верой в победу добра.
Эти воспоминания не предназначались для советской печати и впервые вышли в свет в 1990 г. уже после кончины автора.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А экзамена по политграмоте мы очень боялись. Еще год назад я освоил половину «кирпича» Бердникова и Светлова, а за последние несколько дней успел вызубрить, где и в каком году происходил очередной съезд партии и как там враждовали большевики с меньшевиками. А Маше и Ляле их учительница Елена Алексеевна Ефимова внушила, что политграмота — это бесполезная скучища, и естественно, что ее ученицы плавали в сём предмете, как мыши в ведре с водой.
Сочинение мы писали усердно; хорошо ли, плохо ли — не знаю. Я вообще сомневаюсь, что кто-либо проверял наши листки. Мы их подали и больше не видели. По русскому устному нас экзаменовал не старый еще профессор Иван Никанорович Розанов, впоследствии прославившийся как библиофил, обладатель лучшего в нашей стране собрания сочинений поэтов.
О чем он меня спрашивал — не помню. Меня поразило его умное лицо проницательные, глубоко сидящие глаза и выдающиеся вперед челюсти с оскаленными зубами.
Французский язык мы знали, наверное, лучше всех других абитуриентов. Нас экзаменовала старушка явно из бывших — Воронцова-Вельяминова; убедившись, что мы бойко переводим и разбираемся в многочисленных passe, она быстро нас отпустила.
У экзаменатора по политграмоте Грановского свирепые очки сидели на голом и длинном, как морковка-каротель, бритом лице. Был он сам длинный, длиннорукий, одетый в отличие от многих бородатых профессоров в хороший костюм. Вид его внушал нам ужас. "Никого не пропущу!" — казалось, говорила вся его долговязая фигура. Спрашивал он меня долго, презрительно поблескивая стеклами очков. Кое-как, запинаясь, я все же ответил.
После меня пошли вместе Маша и Ляля. Я был убежден, что обе они провалятся с треском. Ведь они же ни черта не знали. Нет, вышли сияющие выдержали. Думаю, что их выручили не столько знания, сколько их миловидные личики.
2
Итак, мы поступили в вуз, получили по голубой карточке с надписью, что такой-то является студентом ВГЛК.
Я — студент! И мы у врат царства знаний! Я чувствовал себя счастливейшим юношей на свете. Буду учиться на писателя! Теперь уж обязательно стану писателем.
Нам объявили, что занятия у нас будут вечерние, по четыре, по пять лекций ежедневно, кроме воскресений. Значит, студенты, где-либо работающие, могут посещать лекции. Лекции, а не уроки, — это звучит здорово!
Кроме первого курса, был еще подготовительный, куда зачисляли тех, у кого знаний оказывалось недостаточно. Приготовишек набралось так много, что их разделили на два потока: «А» и «Б». Но мы трое выдержали экзамены на «хорошо» и являлись первокурсниками.
Вот на дверях табличка — 1-й курс. Мы вошли, я впереди, потом Ляля, потом Маша. Днем тут был обыкновенный класс обыкновенной школы. Но для нас эта просторная комната называлась аудиторией.
В комнате в три ряда стояли столы со скамьями. На каждой скамье сидело по три студента. Я поискал глазами свободные места. Наверное, приди мы десятью минутами раньше, таких свободных скамей нашлось бы больше. А тут незанятыми оказались лишь в первых двух рядах. Я мог бы выбрать любую из шести скамей, но выбрал в ближайшем к окну ряду.
В том незначительном факте, что я выбрал именно эту скамью, была чистая случайность. Приди мы десятью минутами раньше, судьба моих младших сестер Маши и Кати — в будущем сложилась бы совсем иначе, обе они вышли бы замуж за других людей и, следовательно, их потомство, столь сейчас многочисленное, оказалось бы совсем иным… Но я забежал вперед на целых шесть лет.
Итак, мы сели: ближе к окну — Ляля Ильинская, сестра Маша — посреди, я — с краю. Столь бойкие в другой обстановке, обе они притихли, не смели поднять глаз. Я оглядел аудиторию. Набралось около сотни молодых девушек. Неужели среди них находятся будущие Пушкины и будущие Толстые?..
Сзади нас сидело трое юношей. У меня есть скверная привычка сравнивать людей, когда я их вижу впервые, с кем-то или с чем-то. Ближе к окну сидел толстенький, розовощекий, целлулоидный пупсик, одетый в скромный москвошвеевский пиджачок с галстуком, в середине сидел прехорошенький юноша с большими и круглыми черными глазами, кудрявый, с усиками, также в москвошвеевском пиджачке с галстуком. Он был такой миловидный, точно явился с дореволюционной конфетной коробки. Третьим был бойкий молодой блондин в хорошем костюме заграничного образца — он с апломбом втолковывал что-то умное своим молчаливым соседям. Мне он напомнил кобелька эрдель-терьера, встретившего незнакомых собак и обнюхивающего их.
Вошел высокий пожилой мужчина с бородкой, представился завучем — его фамилия Буслаев, он внук известного филолога прошлого столетия профессора Федора Ивановича Буслаева и будет у нас читать древнерусскую литературу. Он продиктовал нам расписание лекций. Фамилии профессоров мало что нам говорили, но зато дух захватывало, когда я писал наименование дисциплин: эстетика, стихосложение, поэтика, теория прозы, языкознание, психология творчества, история искусства, литературы — древнегреческая, немецкая, древнерусская… Наверное, большая часть студентов поморщилась, когда мы узнали, что будут у нас целых три политграмоты — история партии, политическая экономия и экономическая политика. Этим дисциплинам отводилось десять часов в неделю.
Так мы начали ежедневно по вечерам ходить на лекции, садились на ту же скамью, а сзади нас садились те же три молодых человека.
3
Не все профессора читали хорошо. Буслаев сумел из "Слова о полку Игореве" вышелушить всю поэзию и превратил бессмертные строфы в такую схоластику, что у нас глаза слипались на его лекциях.
Все три преподавателя политграмоты, особенно гологоловый Грановский, очень старались, но они никак не могли свои унылые науки превратить в нечто хоть мало-мальски занимательное. Один из учебников политической экономии сплошь состоял из картинок и все равно был скучен. А "Диалектический материализм" Бухарина был самый трудный в моей жизни учебник политграмоты. Теперь он давно уничтожен. А сколько тогда часов подряд я потерял уткнув в его страницы!
Но были у нас и совсем иные профессора, из коих многие еще до революции считались выдающимися учеными. К концу лекций сердце у меня готово было выскочить от восторга — так блестяще, остроумно, вдохновенно многие их них передавали нам частицы тех знаний, какими были сами увлечены с юных лет.
Первые свои лекции они начинали примерно одинаково, обещая, что будут нам читать свой предмет на основе материализма, диалектического и исторического, и марксистско-ленинского учения. А затем и до самого конца учебного года они не вспоминали ни о материализме, ни о марксистско-ленинском учении и излагали свои мысли так, как считали нужным их излагать.
Однако для перестраховки некоторые марксистские труды они нам рекомендовали усвоить. Это "Литература и революция" Троцкого, все тот же "Диалектический материализм" Бухарина, сочинения Воронского, Деборина, других марксистов, чьи книги давно сожжены как библиотекарями, так и напуганными гражданами. Теперь их можно разыскать разве что в музее Ленина и в Ленинской библиотеке.
Назову некоторых наших профессоров. У иных я запомнил даже интонацию их голосов — настолько незабываемым было впечатление от их лекций.
Григорий Алексеевич Рачинский читал нам немецкую литературу. В прошлом был он ближайшим последователем Владимира Соловьева. После смерти философа издал его полное собрание сочинений, был близок с символистами, особенно с Валерием Брюсовым. А с виду он больше всего напоминал Гомера, которому боги, однако, оставили чуточку зрения. Гомера старого, вдового и потому неухоженного, одетого в засаленную черную куртку и в помятые брюки.
Он начал рассказывать нам о древнегерманской мифологии, потом перешел на Нибелунгов и застрял на их подвигах на целых полгода. Он говорил громким, слегка сиплым, вдохновенным голосом, отчеканивая каждую фразу. Когда же кончал говорить, у многих из нас горели глаза, и сам я выходил в коридор с головокружением.