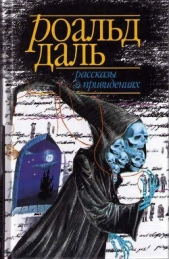Моя биография

Моя биография читать книгу онлайн
Чаплин стал легендой еще при жизни — живой легендой кинематографа. И в наши дни, когда число «звезд» Голливуда уже сопоставимо с числом звезд на небе, символом кино по-прежнему остается он, вернее, созданный им бессмертный образ — Чарли, нелепый человечек в огромных ботинках с маленькими усиками и громадными печальными глазами. В комических короткометражках начала века десятки героев падали, кувыркались, швыряли друг в друга кремовые торты. Делал это и Чарли. Но в его фильмах герой все чаще стремился не просто рассмешить зрителя, но и пробудить в нем добрые чувства. Кинематограф из простой забавы со временем превратился в высокое искусство — и этим все мы не в последнюю очередь обязаны гению Чарльза Чаплина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Не знаю, удалось ли мне воспроизвести образ, достойный моей матери. Я знаю лишь, что она мужественно и весело несла свой крест в жизни. Самыми замечательными ее качествами были доброта и отзывчивость. Хотя сама она была религиозна, она любила грешников и себя считала такой же грешницей, как все. В ней не было ни грана пошлости. Какими бы раблезианскими выражениями она порой ни пользовалась, они всегда звучали уместно и образно. Несмотря на ту нищету, в которой мы были вынуждены жить, она уберегла нас с Сиднеем от влияния улицы и внушила нам, что мы не просто нищие, что мы — не такие, как все прочие обитатели трущоб, что у нас — особая судьба.
Сэм Голдвин дал обед в честь приехавшей в Голливуд скульптора Клер Шеридан, чья книга «От Мэйфер до Москвы» произвела сенсацию. В числе приглашенных был и я.
Клер, высокая, красивая женщина, была племянницей Уинстона Черчилля и происходила по прямой линии от Ричарда Шеридана. Она была первой англичанкой, побывавшей в России после революции.
Хотя ее книга была проникнута симпатией к большевикам, она не вызвала особого негодования — американцев сбивала с толку принадлежность Клер к высшей английской аристократии. Ее приглашали в лучшие дома Нью-Йорка, и она даже сделала несколько бюстов по заказу местных магнатов. Она лепила, кроме того, Герберта Суопа, Бернарда Баруха и многих других. Я познакомился с ней в ту пору, когда она со своим шестилетним сыном Дикки ездила с лекциями по стране.
Клер жаловалась, что в Штатах трудно заработать на жизнь скульптурой.
— Американцы ничего не имеют против того, чтобы их жены позировали для портретов, но сами позировать не желают — они слишком скромны.
— А я скромностью не отличаюсь, — заметил я.
И мы договорились, что ее глина и инструменты будут доставлены ко мне домой, и после второго завтрака до вечера я буду ей позировать. Клер умела втягивать собеседника в разговор, и скоро я уже из кожи вон лез, чтобы только не ударить в грязь лицом. Когда бюст был уже почти готов, я внимательно разглядел его.
— Голова преступника, — заметил я.
— Напротив, голова гения, — ответила она с притворной торжественностью.
Я рассмеялся и стал развивать теорию о тесном родстве гениев и преступников: те и другие крайние индивидуалисты.
Она рассказала мне, что с тех пор, как начала читать лекции о России, она чувствует себя в обществе отверженной. Я знал, что Клер по натуре не публицистка и ей чужд политический фанатизм.
— Вы написали очень интересную книгу о России — и остановитесь на этом, — сказал я. — Зачем вам соваться в политику? Навлечете на себя неприятности.
— Эти лекции меня кормят, — возразила она. — Но никто не хочет слушать правду. А когда я выступаю без подготовки, я могу говорить только правду. И к тому же, — прибавила она шутливо, — я люблю моих милых большевиков.
«Моих милых большевиков», — повторил я и рассмеялся. Однако я чувствовал, что внутренне Клер совершенно ясно и вполне реалистически понимала свое положение. Когда я снова встретился с ней в 1931 году, она рассказала мне, что живет неподалеку от Туниса.
— Но почему вы решили там обосноваться? — спросил я.
— Жизнь гораздо дешевле, — живо ответила она. — В Лондоне, при моих ограниченных доходах, мне пришлось бы жить в двух маленьких комнатках, где-нибудь в Блумсбери, а в Тунисе я могу на эти деньги жить в доме со слугами, окруженном прекрасным садом, в котором гуляет Дикки.
Дикки умер девятнадцати лет от роду, и для Клер это был слишком горестный, ужасный удар, от которого она так никогда и не смогла оправиться. Клер стала католичкой и какое-то время даже жила в монастыре, видимо, обратившись к религии в поисках утешения.
На одном из кладбищ на юге Франции я когда-то видел на могильной плите фотографию улыбающейся девочки, лет четырнадцати, а ниже можно было прочесть: «Pourquoi?» [93]. В таком отчаянии тщетно искать ответа. Это повело бы лишь к лживому морализированию и лишней муке, и все-таки это не значит, что не может быть ответа. Я не могу поверить, что наша жизнь случайна и не имеет смысла, как нас убеждают некоторые ученые. Жизнь и смерть слишком непреложны, слишком неумолимы для того, чтобы быть случайными.
Человек имеет право думать о тщетности нашей жизни, о том, что жизнь и смерть бессмысленны, когда он видит, как погибает гений во цвете лет, видит происходящие в мире катаклизмы, катастрофы и гибель. Но уже то, что они происходят в мире, говорит о том, что она существует — эта твердо установленная, непреложная цель, которая непостижима для нашего сознания, ограниченного тремя измерениями.
Некоторые философы полагают, что все в мире является материей, находящейся в той или иной форме движения, и что к уже существующему в природе ничего нельзя ни прибавить, ни отнять. Но если материя — это движение, оно должно совершаться по законам причины и следствия. Если же я с этим соглашаюсь — значит, каждое действие предопределено, и в таком случае царапина на моем носу так же предопределена, как и падение метеора? Кошка гуляет вокруг дома, лист падает с дерева, ребенок спотыкается. Разве эти действия не предопределены в бесконечности? Разве их причины и следствия не уходят в вечность? Нам известна непосредственная причина того, что упал лист или споткнулся ребенок, но мы не можем проследить истинного начала и конца.
Я не религиозен в догматическом понимании этого слова. Мои взгляды сходны с взглядами Маколея [94], писавшего, что и в XVI веке велись те же самые религиозные споры и с теми же самыми философскими ухищрениями, как и сейчас; и, несмотря на все приобретенные человечеством знания и на прогресс в науке, ни один философ прошлого или современности не внес в эти вопросы какой-либо ясности.
Я и не верю ни во что и ничего не отрицаю. То, что можно вообразить, является таким же приближением к истине, как и то, что можно доказать математически. Но человек не может ограничиваться одним лишь рациональным подходом к истине — ведь для этого требуется геометрический склад ума, образ мыслей, основанный на логике и правдоподобии. А мы видим во сне мертвых и воспринимаем их, как живых, хотя и знаем, что они мертвы. Несмотря на то, что этот сон неразумен, разве в нем нет своего правдоподобия? Существуют вещи вне нашего разума. Как можем мы осознать триллионную частицу секунды? А она должна существовать, если верить математикам.
Чем старше я становлюсь, тем все больше занимают меня вопросы веры. Мы больше живем верой, чем нам это кажется, и получаем от нее больше, чем представляем себе. Из веры, по-моему, рождаются все наши идеи. Без веры никогда не возникли бы новые гипотезы и теории, не развивались бы естественные науки и математика. Я думаю, что вера есть продолжение нашего разума, за пределами очевидного, она — тот ключ, который открывает непознаваемое. Отрицать веру — это значит опровергать самого себя и тот дух в себе, который порождает нашу творческую силу.
Я верю в непознаваемое, в то, чего мы не можем понять разумом; я верю в то, что недоступное нашему уму представляет собой самое простое явление в системе иных измерений, верю и в то, что в царстве непознаваемого существует безграничная сила, направленная к добру.
В Голливуде я по-прежнему жил словно одинокий волк. Я работал у себя на студии. Поэтому у меня почти не было случая встречаться с актерами других студий и заводить новых друзей. Если бы не Дуглас и Мэри, я бы совсем одичал.
Они поженились и были удивительно счастливы. Дуглас перестроил свой старый дом, отлично его обставил и прибавил несколько комнат для гостей. Фербенксы жили на широкую ногу — у них была превосходная прислуга, превосходный повар, а Дуг был превосходным хозяином.
И у себя — в студии — он располагал роскошными апартаментами, с турецкой баней и бассейном для плавания. Здесь он развлекал своих именитых гостей: угощал их завтраками, водил по студии и показывал, как делаются фильмы, а затем приглашал попариться в турецкой бане и поплавать в бассейне. После турецкой бани они рассаживались у него в уборной, завернувшись в купальные простыни, — ни дать ни взять римские сенаторы.

![За стеклом [Коламбия-роуд]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)