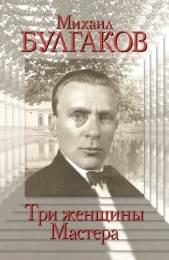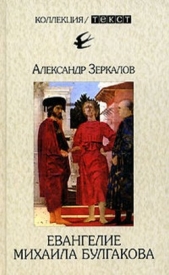Жизнеописание Михаила Булгакова

Жизнеописание Михаила Булгакова читать книгу онлайн
Первая научная биография выдающегося советского писателя М. А. Булгакова — плод многолетней работы автора. Множество документов, свидетельств современников писателя дали возможность автору не только скрупулезно воссоздать вехи жизни Булгакова, но и его творческий облик. Книга написана в яркой художественно-публицистической манере. Жизнь писателя дается на широком историческом фоне эпохи, ее литературной и социальной жизни.
Для широкого круга читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тогда, наконец, подпись нового фельетониста кто-то прочитал внимательно. «Немало шумели в редакции, — вспоминал в своих еще в 60-е годы написанных мемуарах о Булгакове заведующий четвертой полосой «Гудка» (Булгаков оставался сотрудником профсоюзного отдела) И. С. Овчинников, — когда в отпечатанном в разосланном номере вдруг был обнаружен свеженький псевдоним Булгакова — Гепеухов».
В эту осень Булгаков второй раз встречал в Москве очередную годовщину Октября. 9 ноября в «Гудке» появился очерк «Ноября 7-го дня (Как Москва праздновала)», подписанный инициалами «М. Б.»: «За день, за два до праздника окна во многих магазинах уже стали наливаться красным светом. Там развесили ряды лампочек и гирлянды, протянули ленты, выставили портреты вождей революции.
К вечеру, когда рабочие и служебная Москва разбегались по домам, среди бледных огней магазинов уже светились эти красные теплые ниши, напоминавшие о том, что приближается годовщина.
А на площади, перед зданием Московского Совета, целый день до позднего вечера суетились рабочие и горели жаровни.
Рабочие отстраивали портал, новые белые стены, разбивали клумбы и цветники. <...>
Мать несла своего двухлетнего ребенка на руках в толпе, и он смотрел по сторонам и что-то лопотал и взмахивал руками. А когда вдруг заиграли оркестры и началось пение, он не выдержал и стал прыгать у нее на руках и что-то кричать.
В эту годовщину на улицы вышли не только спаянные и стройные колонны рабочих со своими плакатами, но мимо них беспрерывно шли толпами, кучками, отдельно обыватели — мужчины и женщины, которые вели своих ребят и говорили:
Вырастешь, и ты пойдешь».
Если б инициалы «М. Б.» не повторялись дальше в «Гудке» под публикациями бесспорно булгаковскими, предположить его авторство очерка по стилевым признакам было бы трудно: писательская индивидуальность в нем почти не отпечатлелась. Нет, впрочем, и ничего, ему противопоказанного; повествование бесстрастно, подчеркнуто протокольно, но даже эта протокольность явно дается автору с немалым трудом. Через несколько лет, быть может, вспоминая историю появления именно этого очерка, Булгаков комически воспроизводит диалоги с редактором и свое душевное состояние в таких ситуациях:
«Когда наступал какой-нибудь революционный праздник, Навзикат говорил:
— Надеюсь, что к послезавтрашнему празднику Вы разразитесь хорошим героическим рассказом.
Я бледнел, и краснел, и мялся.
— Я не умею писать героические революционные рассказы, — говорил я Навзикату.
Навзикат этого не понимал. У него, как я уже давно понял, был странный взгляд на журналистов и писателей. Он полагал, что журналист может написать все что угодно и что ему безразлично, что ни написать. А, меж тем, по некоторым соображениям, мне нельзя было объяснить Навзикату кой-что: например, что для того, чтобы разразиться хорошим революционным рассказом, нужно прежде всего самому быть революционером и радоваться наступлению революционного праздника. В противном же случае рассказ у того, кто им разразится по денежным или иным каким побуждениям, получится плохой...»
Это непосредственное ощущение, сохранявшееся Булгаковым, в последующие годы становилось все более и более уникальным.
Пока же он в достаточной степени растворен в московской литературной среде. Среда эта продолжала пополняться.
7 ноября 1923 года в Москву вернулся Г. Алексеев, незадолго перед тем, летом, удостоившийся рецензии официозного публициста, одного из руководителей государственного издательского дела Н. Мещерякова. Рецензент с одобрением цитировал его книгу «Мертвый бег. Повесть зарубежных лет», только что вышедшую в Книгоиздательстве писателей в Берлине и описывающую жизнь бывших офицеров-белогвардейцев в лагерях близ Берлина: «Так шла жизнь, без начала и конца, увязшая в чужую, разбухшую в мокропогодь колею, ненужная и нелепая, но сил выбиться из колеи не было, и все глубже загрязали в ней люди и отдавались ей <...> Сечет в лицо дождь, голод и болезни сторожат лагерь кругом, и каждый шаг в нем мертв, и каждая мысль бесплодна — неподвижен и каменен ее лик». Удовлетворенно приводя эти описания (выполненные, заметим, в той расхожей, «под Горького» беллетристической манере 1910-х годов, которую преодолевал своей прозой Булгаков), рецензент заключал свой отзыв следующим образом: «Картина нарисована талантливо и человеком, знающим дело. Автор любит изображенных им лиц; он старательно отыскивает в них человеческие черты. Но от этого картина становится еще более убийственной». Такая оценка давала, несомненно, право на обратный въезд.
Имя Г. Алексеева не было новым для Булгакова — в Киеве он был помощником редактора «Новостей Дня» и редактором литературной газеты «Наш Понедельник», затем — редактором, «Свободной речи» в Ростове-на-Дону, газете, конечно, читавшейся Булгаковым в конце 1919 — начале 1920 года.
22 декабря 1923 года в третий раз за год (считая с 30 декабря 1922 г.) Булгаков приходит на Никитинские субботники, — по-видимому, чтобы послушать Овадия Савича, читавшего в этот день свою повесть «Пансион фон Оффенберг». В тот же день усердный посетитель субботников художник Александр Аввакумович Куренной (1865—1944) рисует его портрет, и он ставит на нем свою роспись и дату. На рисунке Булгаков на удивление молодой — очень коротко, почти по-военному постриженный юноша-студент со спокойным, слегка насмешливым взглядом.
На заседании присутствуют вместе с ним А. Неверов, Вера Инбер, И. Н. Розанов, Ада Владимирова, А. Антоновская. Неверов и Розанов, выступая, отмечают достоинства языка повести. Булгаков не выступает.
В дневнике И. Н. Розанова в краткой записи о заседании и о выступлениях Булгакова нет; в листе росписей участников заседания его роспись — справа, на отшибе. Он не стал своим в этой московской литературной среде. «В перерыве, — описывает И. Розанов, — Вадя (О. Савич. — М. Ч.) отвел в другую комнату. Там вшестером (я, Вадя, Зархи, Неверов, Кириллов, Соболь) распили две бутылки порт<вейна>» (автор дневника помечает — «Принес Неве< ров» — сухой закон еще действует, повышая значимость каждого «приноса»). После перерыва читает свои стихи Н. Берендгоф. Через 3 дня Розанов запишет, что в праздник Рождества по литературной Москве разносится известие о внезапной смерти А. Неверова; 29 декабря — похороны.
В новом положении штатного фельетониста «Гудка» Булгаков предложил газете большой рассказ «Налет (В волшебном фонаре)», повествующий об эпизоде времен гражданской войны, — о том, что более всего занимает писателя в течение всего этого года. Рассказ был напечатан 25 декабря 1923 года. С этого месяца фельетоны Булгакова печатаются регулярно, но особенно часто — по 4—5 в месяц — с лета 1924 года.
Весь минувший год он писал о недавнем прошлом, а собственное прошлое неотступно стояло за его спиной.
Существует устное свидетельство Е. Ф. Никитиной о следующем эпизоде. На одном из Никитинских субботников [82] Булгаков, увидев среди присутствующих некоего человека, на глазах у всех бросился обнимать его. Обнявшись, они долго стояли молча. Никто не знал, в чем дело. Позднее Никитина узнала от Б. Е. Этингофа о том, что именно связывало его с Булгаковым. Будто бы в момент прорыва Южного фронта красными войсками была взята в плен большая группа офицеров; среди них были и врачи. Этингоф был комиссаром в этих частях. Он обратился к врачам: — Господа офицеры, мы несем потери от тифа. Вы будете нас лечить?
Предложение это было высказано в такой ситуации, когда всех пленных ожидал расстрел. И будто бы Булгаков ответил, что он находится в безвыходном положении и он в первую очередь — врач, во вторую — офицер...
Он остался жив, другие были расстреляны. Это воспоминание и заставило их, встретившись через несколько лет в Москве, в молчании обнять друг друга; молчание это представляется психологически достоверным. Обо всем этом рассказывала Е. Ф.Никитина журналисту В. М. Захарову в начале 1960-х годов, а он пересказал нам 25 октября 1987 г.