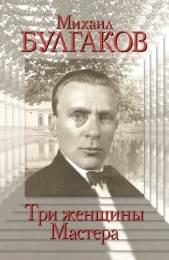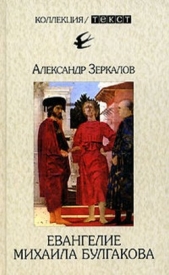Жизнеописание Михаила Булгакова

Жизнеописание Михаила Булгакова читать книгу онлайн
Первая научная биография выдающегося советского писателя М. А. Булгакова — плод многолетней работы автора. Множество документов, свидетельств современников писателя дали возможность автору не только скрупулезно воссоздать вехи жизни Булгакова, но и его творческий облик. Книга написана в яркой художественно-публицистической манере. Жизнь писателя дается на широком историческом фоне эпохи, ее литературной и социальной жизни.
Для широкого круга читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
К осени 1923 года относим мы сохранившуюся в архиве Булгакова недатированную записку к сестре: «Дорогая Надя! Я продал в «Недра» рассказ «Дьяволиада», и доктора нашли, что у меня поражены оба коленные сустава; кроме того, я купил гарнитур мебели шелковый вполне приличный.
Что будет дальше, я не знаю, — моя болезнь (ревматизм) очень угнетает меня. Но если я не издохну как собака — мне очень не хотелось бы помереть теперь — я куплю еще ковер. <...>
Твой покойный брат Михаил».
Об этих покупках — столь редких в первые московские годы — вспоминает и Т. Н.: «Как-то один еврей привез какому-то из пигитских (дом принадлежал Пигиту — М. Ч.) рабочих мебель. А того то ли дома не было, то ли он не взял — постучал в нашу дверь: «Не нужна мебель?» Меня тогда не было, уезжала, наверно, к сестре. Булгаков посмотрел, мебель ему понравилась. И дешево продавали, а он как раз получил тогда за что-то деньги. Это была будуарная мебель во французском стиле — шелковая светло-зеленая обивка в мелкий красный цветочек. Диванчик, кресло, два мягких стула, туалетный столик с бахромой... Два мягких пуфа. Для нашей комнаты эта мебель совсем не подходила — она была слишком миниатюрной для довольно большой комнаты (25 м2 или больше). Но Михаил все хотел, чтоб в комнате было уютно...»
Здесь узнается тот легкий налет безвкусицы, который настойчиво подчеркивается многими мемуаристами, — правда, как правило, недоброжелательными. Москвичи охотно видят в этом провинциализм (любопытно, что особенно — те из москвичей, которые сами приехали из провинции одновременно с Булгаковым). Скорее это было то безразличие вкуса, которое отличало некоторую часть средних российских интеллигентов 1910-х годов, — дома, на Андреевском спуске, стиля скорей всего не было — были нераздражающие, с детства привычные вещи. Теперь, после нескольких лет скитаний по чужим комнатам, хотелось иметь какие-то свои вещи, которые могли бы невидимой чертой отделить его жизнь от «самогонного быта» за стеной.
Когда писалась записка сестре, Булгаков уже, видимо, знал, что один из братьев Крешковых (их было три брата — Иван, Александр, Владимир), Владимир Павлович, привез с Кавказа ковры, предлагал недорого продать. И Булгаков купил — «заплатил не то 200, не то 150 рублей. Дома у нас был еще один ковер — текинский. Это был мой ковер с десяти лет. С 1918 до 1921-го он пролежал у дядьки в корзине. Все вещи пропали — отсырели и расползлись, а ковер уцелел — я случайно просыпала на него махорку, и он сохранился. Он висел у нас над диваном, а новый повесили над кроватью. У нас была еще походная кровать — раскладушка, брезентовая...» (Т. Н.)
Отметим, что эта же мебель, купленная осенью 1923 года, всплывает через десять лет и в дневниковой записи Ю. Л. Слезкина — той самой, которую мы уже цитировали, с описанием комнаты на Б. Садовой: «...Булгаков стал попивать красное винцо, купил будуарную мебель, заказал брюки почему-то на шелковой подкладке... Об этом он рассказывал всем не без гордости».
...И снова сообщаемые нами подробности обстановки, детали туалета могут вызвать сопротивление читателя — «зачем эта мелочность? И не походит ли она на выяснение того, был ли насморк у такого-то великого человека в такой-то день?» И вновь мы подтвердим свою уверенность в необходимости восстановления этих мелочей именно в отношении Булгакова — из-за чрезвычайной значимости для него самого тех вещей, из которых складывается повседневный быт. Для него это Вещи с большой буквы, и они легко трансформируются в вещи литературные. Это — часть нормы, без которой немыслима жизнь, отсутствие которых — помеха творчеству. Недаром даже через десять с лишним лет, когда Булгаков уже около года будет жить в довольно хорошей трехкомнатной квартире, Елена Сергеевна запишет в своем дневнике: «Для М. А. квартира — магическое слово. Ничему на свете не завидует — квартире хорошей! Это какой-то пунктик у него» (23 августа 1934 г., дневник Е. С. Булгаковой). Тусклая (или потухшая) электрическая лампочка для него — знак, символ человеческой неустроенности, поражения, едва ли не смерти: «О, только тот, кто сам был побежден, знает, как выглядит это слово! Оно похоже на вечер в доме, в котором испортилось электрическое освещение. <...> Словом, оно похоже на смерть» («Белая гвардия»).
«...Восстановить норму — квартиру, одежду и книги». Не случайно все мемуаристы, мешая точность с преувеличениями, так или иначе обращаются к тому, как одевался Булгаков, как он выглядел внешне, — значимость его одежды для него самого делала ее значимой для окружающих. «Впоследствии, когда синеглазый прославился и на некоторое время разбогател, наши предположения насчет его провинциализма подтвердились: он надел галстук бабочкой, цветной жилет, ботинки на пуговицах, с прюнелевым верхом и даже, что показалось совершенно невероятным, в один прекрасный день вставил в глаз монокль...» (В. Катаев «Алмазный мой венец»). Об этом монокле В. Катаев упоминал и ранее — в одной из наших бесед в июле 1976 года в Переделкине еще до того, как им была задумана и начата повесть: «Он стал совершенно другой! Абсолютно! Появился монокль, ботинки с прюнелевым верхом»; затем — в ноябре 1977 года: «Я говорю: «Что такое? Миша! Вы что, с ума сошли? Он говорит: а что?
Монокль — это очень хорошо!» Печать на сохранившемся , рецепте монокля, выписанном 8 сентября 1926 года поликлиникой ЦЕКУБУ в Гагаринском переулке, свидетельствует, что монокль был куплен 13 сентября — то есть перед премьерой «Дней Турбиных». Этот запомнившийся всем (и запечатленный на одной из фотографий) монокль, поразительный в 20-е годы, монокль, на котором Булгаков настаивает (как и на «брюках на шелковой подкладке»), довершает, на наш взгляд, представление об отношении Булгакова к одежде. Костюм в те годы был для него прежде всего напоминанием об утраченной социальной принадлежности (ср. в рассказе «Четыре портрета» — «Я, бывший... впрочем, это не имеет значения... ныне человек без определенных занятий»); он был исполненным смысла, рассчитанным на прочтение — и в трудных обстоятельствах Булгаков собирал его по частям, оповещая друзей о деталях: отсюда эти запомнившиеся Слезкину брюки на подкладке. Возможно, речь шла о первом в московские годы костюме — Татьяна Николаевна вспоминает, как этот костюм — темно-коричневый — шили, возможно, в ту же осень у портного.
Это само по себе было событием. «Мы были провинциалы, — рассказывал В. Катаев. — Мы явились в Москву из Киева, из Одессы, где только что кончилась гражданская война, где в городах все время менялась власть. А здесь революция продолжалась несколько дней, здесь давным-давно шла мирная жизнь! Помню, я в первую ночь после приезда ночевал на десятом этаже дома Нирензее. Потом меня повели к Андрею Глобе... И вдруг он, поговорив с нами, сказал:
— Вы извините, я должен идти к портному.
К портному! Мы представить себе этого не могли!» (22 июля 1976 г.)
Этого визита к портному Булгаков, несомненно, ожидал с момента приезда в Москву — как знака «восстановления нормы».
Приведем для сравнения еще один фрагмент из тех же записанных нами воспоминаний В. Катаева: «Однажды я выиграл 6 золотых десяток... Две я проел, а на 4 купил в ГУМе прекрасный английский костюм. Ну, прекрасный... Цвета маренго... Но не было ни рубашки, ни галстука, ни ботинок. (Смеется). Ну ничего, я носил свитер! Мы мало придавали этому значения... А ему все это было важно. Разное отношение наше к этому — это была разная возрастная психология...» (22 июля 1976 г.); «Он старше всех нас тогда был, в том возрасте это значительно — что в начале войны он был студентом четвертого курса, а я был там вольноопределяющийся еле со средним образованием, так что он принимался как старший...» (30 ноября 1977 г., Переделкино).
В эту осень изменились и его служебные обязанности в «Гудке» — из обработчика он стал фельетонистом. Один из первых его фельетонов был напечатан 17 октября 1923 года — «Беспокойная поездка. Монолог начальства (не сказка, а быль)» и подписан так: «Монолог записал Герасим Петрович Ухов». Следующий появился через две недели, 1 ноября («Тайны Мадридского двора») и заключался так: «Разговор подслушал Г. П. Ухов», а затем еще один, 22 ноября («Как разбился Бузыгин»), и подпись была такая: «Документы собрал Г. П. Ухов».