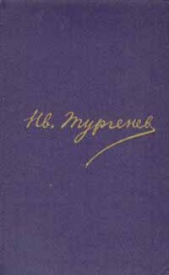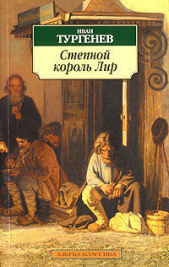Записки гадкого утёнка

Записки гадкого утёнка читать книгу онлайн
Известный в России, и далеко за ее пределами эссеист, философ и филолог выступает на этот раз с мемуарной прозой. Григорий Померанц пережил и Сталинград, и лагеря, и диссидентство, но книга интересна не только и не столько событиями, сколько рожденными ими мыслями и чувствами. Во взлетах и падениях складывается личность человека, и читатель вступает в диалог с одним из интереснейших современников и проходит вместе с автором путь духовного труда как единственную возможность преображения.
Сердечная благодарность от редакции сайта levi.ru и от Григория Соломоновича Померанца за труды над электронной версией книги — Кате Кривошей и Сергею Левченко, нашим сотрудникам и друзьям.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Обе идеи (интеллигенции и диаспоры) все время перекликались. Кто-то мне рассказал (кажется, Агурский), что Солженицын резюмировал мою мысль так: «Для Померанца интеллигенты — это евреи». Думаю, что сказал искренне, без хитрости. Ему кажется само собою разумеющимся, что подлинная мысль резка и категорична, а если она не прямо выражена, то это риторический прием. Но для меня перекличка идей и внезапное тождество различий — не прием, а суть дела. Этнический чужак иногда похож на чужака социально-культурного: лишнего человека, беспочвенного интеллигента. Я цитировал Марину Цветаеву: «В сем христианнейшем из миров поэты — жиды» {39}. Я тыкал пальцем на случаи, когда обе породы чужаков трактуются одинаково и охотнорядцы примерно одинаково бьют жидов и студентов. Но я не идиот и не считаю Г. П. Федотова евреем, а Л. М. Кагановича — интеллигентом. Сплошь и рядом я выгляжу в глазах Александра Исаевича именно таким идиотом, и многие передержки в его полемике со мной — не только от увлечения спором, но и от элементарного непонимания моего склада ума.
Так или иначе, я глубоко обязан Александру Исаевичу, что он своим невежливым письмом вызвал во мне интерес к диаспоре. Я задумался: какова роль диаспоры в мировой истории? И можно ли мировую историю представить себе без участия диаспоры? Могло ли без еврейских общин, разбросанных по Средиземноморью, сложиться и распространиться христианство? И какая среда, — кроме диаспоры, — могла подхватить и вынести первую искру монотеизма? Эта тема развита в одной статье, а здесь только еще раз подчеркиваю, что она выросла из недолгой нашей переписки.
Не очень большое, но важное место в «Человеке воздуха» занимала еще одна тема, литературная. Мне захотелось проследить границы таланта Солженицына в изображении женщины и любви. Его героини поэтичны, пока мужчина глядит на них издали, не решаясь прикоснуться (Агния в «Круге», Вега в «Раковом корпусе»). И снова могут стать поэтичными в старости (Матрена). Но близость убога, как в «Крейцеровой сонате» Льва Толстого. Только для Толстого это невыносимая мука и прямо катастрофа, а Солженицын оправдывает бездарность в любви народной поговоркой: женятся для щей, замуж выходят для мяса. По мне, лучше смятение Толстого перед семейной жизнью Позднышевых, чем эта народность. И если народность действительно такова, то на что мне она? Не так уж хороша почва, на которой нет почвы для любви. Лучше оставаться перекати-полем…
За этой темой сквозила другая: может ли человек, не справившийся с трудностью любви к живой женщине, действительно любить фигуры собирательные, лишенные собственной воли и собственного, не подвластного нашему воображению лица? Не становится ли любовь к народу и России любовью к собственной мечте (и к себе, мечтателю)? Подобно любви к человечеству, над которой горько смеялся Достоевский? Я не подсказываю ответа на все эти вопросы. Я не знаю его. Но вопросы во мне шевелились.
Однако шел 1968-й год. Чешские писатели страстно обсуждали страстно написанное письмо Солженицына. В Польше начались студенческие волнения, и власти натравили на университет рабочих. «Правда» напечатала статью Гомулки, обвинившего в беспорядках евреев. Пан Гомункулус принципиально отрицал право еврея, оставаясь гражданином Польши, симпатизировать Израилю (а не арабам, с которыми дружил лагерь мира и демократии). Косвенным образом была задета и национальная интеллигенция, завалившая посольство Израиля цветами в июне 1967 года; эта польская фронда против польского правительства и его великого союзника была определена как подрыв национальных интересов. Антиинтеллигентская и антисемитская демагогия на несколько лет парализовала оппозицию. А в Чехии все кипело — и каждый день выбрасывал новые тысячи строк, потрясавших слушателей западных радиостанций. Среди этих страстей мне все меньше хотелось спорить с Солженицыным. Казалось, что жизнь сама его научит. И я сократил третью тему в «Человеке без прилагательного», а в «Человеке ниоткуда» вовсе выбросил ее. Наконец, в послесловии к «Человеку ниоткуда» я цитировал свою приятельницу Лену Огородникову (что Колыма ее волнует больше, чем Освенцим) {40} и протягивал руку патриотам, которые именно так понимают любовь к России. Я снова предлагал им мир и союз. Мне казалось, что острота спора с Солженицыным совершенно снята. Его молчание я принял как знак согласия.
Однако я не заметил одного своего промаха, сохранившегося и в последней редакции эссе (я менял названия, чтобы отличить первую редакцию от второй и третьей: «Человек воздуха», «Человек без прилагательного», «Человек ниоткуда»). Мне казалось нелепым народничество и почвенничество без народа и почвы. В России XIX века все понятно. Западничество и почвенничество — два альтернативных ответа на европеизацию или, как сейчас говорят, вестернизацию. Доведенные до предела, оба нелепы. Но умеренное западничество плодотворно более в политике и экономике, а почвенничество — в культуре (нечто аналогичное — хотя и не совсем это — я пытался доказать в 1938–1939 годах, противопоставляя Достоевского и Толстого Чернышевскому и Щедрину; за что мне и влепили по первое число — см. гл.3). Но сегодня? Я ничего не понимал. Почвы больше не было. Возвращаться некуда.
До конца 60-х годов я смотрел на новое почвенничество как на выдумку, спекуляцию, удачно найденную форму полунезависимости, полурептильности и дозволенной фронды в рамках черной полосы официальною спектра. То есть рациональна (на свой лад) позиция Глазунова, Палиевского, Кожинова, Солоухина. А у Солженицына это какой-то личный выверт, который непременно должен пройти или хоть смягчиться. Я не понимал, что отрезанная нога может болеть. То есть фантомная боль в мозгу, но она ощущается как боль в отрезанной ноге.
У меня самого нет такой боли. Я как-то наладил отношения с глубиной жизни мимо фольклорной и церковной традиции. Эти отношения всегда зыбки, текучи. Их каждый день надо восстанавливать заново, но постоянное напряжение открытого вопроса меня не утомляет, не пугает, не становится невыносимым. Наоборот, оно влечет меня к себе. Я только умом понимаю людей, которым нужно что-то другое. Я слишком медленно, поздно понял, что страдание от безбрежья и беспочвенности может быть невыносимым, и массовая боль требует своего врача, способною ее заговорить; а значит, миф Солженицына не только его личная причуда.
Бывают иллюзии, обладающие силой вещей. Их корень — тоска. В эссе «Тоска по Армении» Грант Матевосян говорит автору (Ю. Карабчиевскому), что Армении больше нет, ее неповторимость стерта, но есть тоска по Армении фольклорной, России устойчивой, незыблемой тоже нет, но есть тоска по России. Так тоскует по Австрии Ингеборг Бахман. После ее рассказа «Синхронно» я сам несколько часов чувствовал себя почвенником. Именно потому, что никакого мифа у Бахман нет, только обнаженная тоска. Миф-идол вызвал бы у меня скептицизм, а тоска заразила, но это индивидуально. Большинству чистой тоски мало (нечем ответить на ее вызов). Нужны иконы и даже идолы, прикрывающие дыру в сердце. В этой обстановке личность Солженицына, его потребность заслонять невыносимые факты легендой (о травле Олега Рождественского, о единстве душ между Нержиным и Спиридоном) стала основой его исторического величия. Сама иррациональность целей, которые Александр Исаевич ставит, — часть этого величия. Новый Иерусалим на Севере-Востоке — такой же фантом, как необитаемый остров Бориса Хазанова, на котором соберется тысяча интеллигентов и будет там (без России) продолжать русскую культуру. Но история — царство майи, и она не может обойтись без фантомов. Зря я пытался пристыдить Александра Исаевича, указывая ему на соседство с Глазуновым и прочими. Подлинный миф не теряет подлинности рядом с корыстной халтурой.
Эта моя ошибка нашла зеркальное отражение в «Образованщине». Указание на дурное соседство Солженицын понял как полемический прием и повторил его против меня: даже Померанц, принадлежащий к совершенно другому слою образованщины, по сути оправдывает продажность и подлость… Ответ по принципу «сам дурак». Но повод к этой полемической фигуре дал я сам. Мое непонимание пафоса почвенного мифотворчества подлило масла в огонь; и огонь этот горит в ряде новых заявлений Александра Исаевича: что либералы и диссиденты только отвлекают от важнейших проблем народной жизни, а настоящие борцы за народ — Огурцов и Осипов; или что все решилось в феврале 17-го, и накануне февраля один Марков-второй, в героическом одиночестве, выступал против блока революционеров, либералов и еврейских газет. И т. д. и т. п.