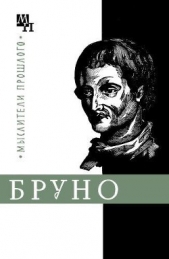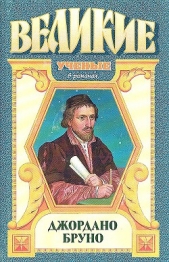Джордано Бруно

Джордано Бруно читать книгу онлайн
В книге описывается жизнь и деятельность Джордано Бруно.
Джордано Бруно (1548, Нола – 17.02.1600, Рим) — итальянский философ и поэт. Родился в семье военного, состоявшего на службе у оккупировавших юг Италии испанцев. Отец Бруно был другом известного поэта Л. Тансилло, образ которого Бруно воскресит в одном из своих диалогов. Окрашенная эпикурейским вольнодумством поэзия от Лукреция до Тансилло будет сопровождать Бруно всю жизнь. Крещеный как Филиппе, он после поступления в доминиканский монастырь (1566) принимает монашеский обет и получает имя Джордано. Подозреваемый в ереси арианского типа бежит в Рим, потом через Савойю в Женеву, где попадает в тюрьму за резкую критику одного из кальвинистов. Освободившись, едет во Францию, читает лекции в Тулузе, потом в Париже, где находит поддержку у короля Генриха III. В Англии благодаря покровительству французского посла получает возможность спокойно работать и пропагандировать свое учение. Здесь создает самые известные свои произведения — итальянские диалоги, в которых философская мысль впервые в истории Европы заговорила на живом народном языке. Потом живет в Париже, затем в Германии, возвращается в Италию, где в мае 1592 его по доносу арестовывают и передают в руки сначала венецианской, а потом и римской инквизиции. После некоторых колебаний Бруно проявляет редкое упорство в отстаивании своих убеждений, отказывается отречься от них, в результате чего он был сожжен в Риме как нераскаявшийся еретик.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Больше чем на полгода его словно забыли. А когда в Риме состоялся первый допрос, то он не обнаружил ничего такого, что могло серьезно обеспокоить Бруно. Инквизиторы касались только вещей, бывших предметом венецианского разбирательства. Доказывало ли это отсутствие у Святой службы новых материалов или свидетельствовало лишь о выдержке опытных римских инквизиторов?
Но на следующем допросе все повернулось иначе. Бруно велели рассказать о его воззрениях относительно ада. Он сослался на свои прежние показания. В Венеции он чистосердечно поведал обо всем, что тяготило его душу, и ему нечего добавить. Он думает об аде так, как предписывает церковь.
Так ли? Ему настоятельно советовали вспомнить, как рассуждения о преисподней он называл детскими сказками. Бруно решительно отрицал, что его уста исторгали подобную ересь. Но оснований для тревоги было много. Появились новые свидетели?
Его опять терпеливо увещевали. Нежелание облегчить душу раскаянием отягчает вину и отрезает пути к спасению. Бруно не поддается на эти затверженные инквизиторами формулы. Он ждет следующих вопросов, но члены трибунала настаивают: если он не выскажет своих подлинных взглядов относительно ада, то нанесет себе непоправимый вред. Будучи изобличен многочисленными свидетелями, он предстанет перед трибуналом как упорствующий еретик, и тогда никто уже не поверит в искренность его слов о намерении совершенно исправиться.
Многочисленными, свидетелями? Какую ловушку они ему приготовили? Ему грозят изобличением. Он повторяет, что верует в ад, как добрый католик. Тогда, не называя имен, оглашают показания. Человек, рассказывающий о ереси Бруно, ссылается на свидетелей. Речь идет о высказываниях Бруно, сделанных в их присутствии. Кто это – скрытые недруги, желчные завистники, отвергнутые за бездарностью ученики, оскорбленные педанты? Четверо подтверждают обвинение. Четверо бывших товарищей Бруно по камере в венецианской тюрьме!
Товарищи по заключению, с которыми он делил краюху хлеба, пил из одной кружки, с кем вместе переносил все тяготы, с кем вместе радовался последним лучам заглянувшего в камеру осеннего солнца или дуновению свежего ветерка, донесшего сквозь гниль испарений солоноватый запах моря. У него хватает выдержки скрыть глубину охватившего его волнения. Допрос продолжается.
Обвиняемый, как видно из приведенных свидетельств, не только отрицал вечность ада, но и позволял себе издевательски утверждать, что никто, даже дьяволы, не обречен на вечные муки. Джордано повторяет, что всегда верил в существование и вечность ада.
Он готов и дальше рассуждать о карах, которые ждут на том свете различных демонов, но его прерывают. В Венеции он утверждал, что верит в божественность Христа. Теперь он должен сознаться в притворстве: не он ли говорил, что Христос, как и люди, совершил смертный грех, когда якобы в Гефсиманском саду не захотел исполнить волю божью? Бруно выражает крайнее недоумение: он никогда не позволил бы себе такого кощунства! Одно за другим читают показания, опровергающие его слова. И опять это бывшие товарищи по камере!
Сейчас он изображает из себя оскорбленную добродетель, а сколько раз в присутствии многих он похвалялся своим безверием? Пусть-ка он вспомнит стих Ариосто, который относил к самому себе и, обуянный гордыней любил повторять?
О господи, самые невинные вещи хотят поставить ему в вину! Да, он часто вспоминал этот злополучный стих Ариосто, стараясь показать, каких пустяковых поводов было достаточно врагам, чтобы клеветать на него. Бруно нарочно рассказывает теперь этот эпизод иначе, чем он рассказывал его Мочениго и Грациано. Произошло это давно, еще в те годы, когда он носил одеяние послушника. Однажды гадали по книге Ариосто и ему выпал стих «Враг всякого закона, всякой веры». Этот случай кое-кто из монахов не преминул обратить против него. Стих, выпавший ему по жребию, они истолковали как аргумент, доказывающий его безверие!
Возмущения Бруно инквизиторы не разделяли. Ведь эти слова Ариосто очень нравились обвиняемому: он не уставал твердить, что они соответствуют его природе, и постоянно бахвалился этим.
Бахвалился? Никогда! Он ведь объяснил все, как было, и нет нужды слушать клеветников. Но его уверения пропадают впустую. Ввести в заблуждение ему никого не удастся – он только умножает доказательства своей неискренности. Как вел он себя в Венеции? На допросах притворялся раскаявшимся, молил принять его обратно в лоно церкви, клялся в корне исправиться, с радостью воспринять заслуженное наказание и впредь вести праведную жизнь. А каковы были его истинные намерения? О чем он говорил в камере? Он не скрывал от других заключенных своих планов. Если бы ему удалось обмануть Святую службу и вырваться из тюрьмы, то что бы он сделал? Он мечтал спалить монастырь и бежать за границу, к еретикам, которые высоко его ценят, чтобы там и дальше распространять пагубные учения и закончить создание секты «джорданистов»!
Ему напоминают его речи в венецианской тюрьме, бешеные приступы ярости, угрозы поджечь, обитель, бежать. Ему зачитывают то одно место из протоколов, то другое. Многие свидетельствуют против Бруно. Но он продолжает упорствовать в отрицании. Долгий и тяжелый допрос подходит к концу. Узника отводят обратно в темницу.
Какой все приняло неожиданный оборот! Он не терял надежды, что в Риме удовольствуются перед смотром венецианского процесса. Ждал дополнительных допросов, уточнений, проверок, ждал новых увещеваний и готов был опять твердить о своем глубочайшем раскаянии и молить о снисхождении. Да, его мучили сомнения, он нередко заблуждался, много грешил, но он никогда не был злонамеренном отступником и никогда умышленно не исповедовал ереси. Вероятность догадки, что Мочениго – единственная опора обвинения, повышала шансы Бруно на успех: он мог рассчитывать на сравнительно нетяжелое наказание и близкую свободу. Теперь все это рухнуло. Святая служба неизвестно какими путями раздобыла новых и, кажется, многочисленных свидетелей. А главное, убийственной силы удар нанесен основе основ поведения Бруно на процессе – попыткам создать у членов трибунала убежденность в искреннем его раскаянии. Сколько сил стоила Бруно эта постыдная комедия! Он то воздевал руки к небу, призывал в свидетели бога, возмущался наговорами, оскорбленный в своих лучших чувствах, негодовал, требовал справедливости, то с подкупающей; откровенностью делился своими сомнениями в вопросах веры, пылко порицал пороки прежней жизни, сетовал на глубину своего падения и, умоляя простить, никак не хотел подниматься с колен. Чего ему только не приходилось разыгрывать перед трибуналом!
Он проникновенно повторял идиотские формулы, из которых невежды сделали символ веры, когда ему хотелось кричать о бесконечной их глупости, он поддакивал спесивым педантам, Когда они городили абсурд за абсурдом. Ему претил вид торжествующей ослиности, а он должен был каяться – он, недостойный, видите ли, имел несчастье усомниться кое в чем из того, чему усердно поклоняются толпы! В нем клокотала ярость, временами от гнева он не; мог говорить, но Бруно подавлял в себе бунтаря и продолжал фарс, за который мог быть вознагражден свободой.
И все напрасно! Сколько бы их ни было, этих предателей из венецианской тюрьмы, и о чем бы еще они ни донесли трибуналу, они уже причинили непоправимый вред. Они уничтожили то, в чем заключалось единственное спасение Бруно, – веру в искренность его раскаяния. Покорный трибуналу, молящий о прощении узник или злостный ересиарх, который и в тюрьме продолжает совращать людей, кощунственно издевается над религией и надеется, одурачив судей, вырваться на свободу и приняться за старое?
Даже если показаниям соседей по камере будет отказано в юридической весомости, все равно они свое сделали: то, что прежде могло служить доказательством раскаяния, теперь становилось образцом искусного притворства.
Он старается вспомнить мельчайшие детали прошлого допроса, снова – в какой раз! – возвращается в Венецию, в грязную камеру, где он так долго сидел. С кем он тогда говорил об аде? Кому рассказывал о стихе Ариосто? Кого убеждал, что и Христос грешил? Разве в его натуре было шептать на ушко? Почти всегда, когда он говорил, его слушали все. Сколько их было в камере? То шесть человек, то больше. Иных выпускали, иных переводили в другие темницы, иных ссылали на галеры. Кажется, самыми старыми обитателями камеры были Иеронимиани, Сильвио и Серафино. В разное время водворили туда Джулио, Франческо, Маттео, Челестино, Комаскьо. А поздней осенью привели Грациано. Тогда уже не было ни Сильвио, ни Иеронимиани. Франческо болел. Кто предатели? Не один и не двое. Четверо или пятеро бывших товарищей!