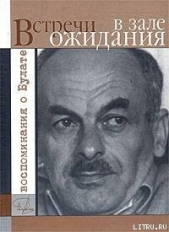Книга прощаний

Книга прощаний читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Чаще, конечно, иначе.
…По ТВ транслируется какая-то светская презентация в Доме кинематографистов, и ведущий Виктор Мережко, приветствуя высоких гостей, мимоходом, до очевидности не всерьез, спрашивает Сергея Владимировича Михалкова:
– А вы верующий?
– Конечно, – светясь, отвечает тот.
– Нет, серьезно? – озадачен Мережко.
– Да! А почему вы удивляетесь?
Действительно, почему? Не потому ли, что может вспомниться (мне – не могла не вспомниться) историческая фраза Михалкова, сказанная задолго до перестройки, все смешавшей в России? Историческая – без шуток, с редкостной откровенностью выразившая систему приоритетов, которая казалась неколебимой не одному Сергею Владимировичу. Короче, он говорит на каком-то собрании – в период суда над Синявским и Даниэлем и как раз по этому поводу:
– У нас, слава богу…
Заглавная буква в слове «Бог» тогда, понятно, даже не подразумевалась (было еще безмерно далеко до строки в новом-старом гимне: «…Хранимая Богом родная земля») – в отличие от названия организации, которое не замедлило прозвучать:
– У нас, слава богу, есть КГБ!
Оказывается, можно было сказать – и, главное, думать - такоеи так, при этом сохранив за собою право в изменившихся обстоятельствах заявить: я – верующий! И был им всегда. А что такого?
Словно вообще не бывает прошлого и не будет грядущего.
Случается, что предшественник – в политике или в искусстве – делает знаковый жест, произносит крылатую фразу, которые реализует, наполнит истинным смыслом идущий следом. Пример из политики: «Мне нужны не умные, а послушные», – скажет, по-видимому, в раздражении император Александр I, но лишь при его младшем брате Николае в России восторжествует именно такой порядок. Пример из искусства: «Мне наплевать, что я поэт. Я не поэт, а прежде всего поставивший свое перо в услужение, заметьте, в услужение, сегодняшнему часу, настоящей действительности и проводнику ее – Советскому правительству и партии». Тут-то уж нет сомнения в том, что произнесено это Маяковским в запале дискуссии, в жару полемики, – и хотя выражало его действительные предпочтения, но с той демонстративностью, за которой чувствуются натуга, надрыв. (Что и аукнется ему так же страшно, как Фадееву – слова о Ермилове.) Зато с какой органичностью, почти грациозностью, не выдающими ни малейшей натуги, не говоря о надрыве, именно это – «услужение сегодняшнему часу», сегодняшнему, ни неделей раньше, ни месяцем позже, – стало программой жизни того же Михалкова.
Сказал бы: и Ермилова, и Федина, и т. д. и т. п., но тогда бы пришлось отказаться от комплиментарного «грациозность». В этом смысле Сергей Владимирович неподражаем.
Конечно, когда он клеймил предателя Пастернака (делая это, по словам JI. К. Чуковской, «не сквозь зубы, не вынужденно, а с аппетитом, со смаком»), а с пришествием новых времен объяснял, что «шел на поводу у «инстанций»… не один, а с многими вместе», то есть особой вины за собою не сознает; или когда Шолохов сожалел, что другим предателям, Синявскому и Даниэлю, Ma л o дали, всего лишь отправили в лагерь, не то что было бы раньше, в расстрельные времена, – тогда в обоих писателях, столь неравноценных, говорила уверенность в вечности советского строя, в несменяемости его моральных критериев и идейных устоев. Отсюда – совершеннейшая беззаботность относительно собственной «загробной жизни», даже если кое-какие сомнения возникали.
Впрочем, предполагая их, делаю над собою усилие.
В этом – только и именно в этом – смысле Шолохов и Михалков действительно были равны (в чем неравны, в чем решительно несоизмеримы, об этом – в следующей главе, где речь неизбежно пойдет о том катаклизме общественного сознания, который и предопределил известную эволюцию автора «Тихого Дона»), И уживчивый, вечно пригождающийся, ставший "символом преемственности властей и настроений Михалков – по причине этих своих замечательных качеств – куда наглядней, чем пьющий вешенский сидень, выразил общую уравнительность времени. А если он являет собой исключительность, феномен – тех же уживчивости, легкости, грациозности, – тем выходит нагляднее…
По ходу одного интервью Михалкова спросили: правда ли, что Юрия Олешу «сломала советская власть»?
«Нет, – твердо ответил Сергей Владимирович. – Ничего его власть не ломала. Он написал «Трех толстяков» во времена советской власти. Его пьесы шли в Художественном театре. Это была богема. Он сидел в кафе, пил свой коньяк. Его же в тюрьму не сажали. А могли бы посадить всех».
Можно, разумеется, возразить, что способы ломки многообразны и наилучший из них – тот, когда могут посадить «всех» и лишь почему-то пока не сажают тебя лично; но именно в этой безапелляционности – драгоценная четкость автохарактеристики. Тот самый феномен С. В. Михалкова.
В истории советской литературы, в этом мартирологе уничтоженных физически, безвременно опочивших или покончивших с собой (не буквально) талантов, есть не только такие случаи, когда дар удавалось длительно имитировать, сохраняя имидж взыскательного мастера: тот же Федин, тем паче – Леонов. У Михалкова все вышло как- то проще, без фединской величавости и леоновского авгурства. Он был одарен редкостно, уникальное обаяние его детских стихов соперничало с обаянием Чуковского, быть может превосходя в этом смысле самого Маршака, – но уже с конца тридцатых (!) годов серьезная критика озабоченно замечает, что молодой поэт склонен к тому, чтобы писать все небрежнее и небрежнее. И Твардовский, делая в 1957 году наброски речи на Первом съезде Союза писателей РСФСР, сожалеет, что нету ныне искрометных стихов для детей, которые напоминали бы «Маршака или молодого Михалкова».
Положим, и Маршак в эти годы был уже не способен сочинить ничего, сопоставимого с «Багажом» или «Почтой». Но оговорка насчет Михалкова – «молодой» – попросту необходима.
Как вам такое?
К звездам смелый кролик совершил полет.
Он новых рейсов ждет,
Он требует высот!
Как же нам сегодня не дерзать, друзья,
Мы тоже в путь готовимся – и он, и ты, и я!
Дальше – не слабее: «Нам хорошо живется. С этим согласиться всем придется». Попробуй – не согласись!
Над этим лично я измывался в 1959 году, в «Литгазе- те», и, между прочим, как чертой того быстро промелькнувшего времени, так и разумной гибкостью Михалкова можно объяснить то, что он прислал в высмеявшую его редакцию повинное письмо, которое мы и опубликовали. Дескать, не удержался и написал подтекстовку к чьей-то музыке по случаю запуска в космос означенного длинноухого, к тому же опубликовав ее в «Огоньке». Извините, больше не буду…
(Замечу: совсем другое дело вышло, когда я же, годы спустя, в уже перестроечных «Московских новостях» раскритиковал текст гимна СССР – еще в его втором, «брежневском» варианте. Вот тогда С. В., отбросивши добродушие, обратился в могущественные инстанции, кажется к Лигачеву, испрашивая, как мне сообщили в газете, серьезной кары для критикана.)
Ладно, про кролика-космонавта – это осознанная халтура. Но, скажем, вот эти стихи сам Михалков охотно читал с эстрады и – среди своего «самого-самого» – отобрал для миниатюрного «избранного»:
В Казани он – татарин,
В Алма-Ате – казах,
В Полтаве – украинец
И осетин в горах.
…Он гнезд не разоряет,
Не курит и не врет,
Не виснет на подножках,
Чужого не берет.
…Он красный галстук носит
Ребятам всем в пример.
Он – девочка, он – мальчик,
Он – юный пионер!
Простота, которая не хуже воровства, – потому что она-то самое воровство и есть. У себя самого. Это ведь даже не автопародия, хотя бы, как передразнивающая гримаса, напоминающая о прежней естественной мимике. Полное стирание черт. Самоуничтожение. «Самоубийство».
Как происходит подобное? По-разному – напомню: о тяжелейшем, трагическомслучае речь впереди. В случае с Михалковым все вышло опять-таки проще: «печной горшок тебе дороже, ты пишу в нем себе варишь», вот и сама несомненная Божья искорка была воспринята по-бытово- му. Как то, на чем, раздув ее, можно сварить пайковую похлебку.