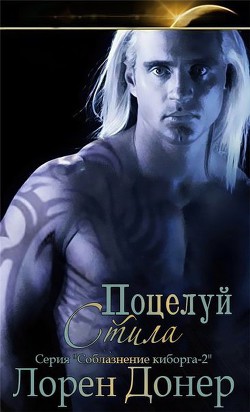Разрозненные страницы

Разрозненные страницы читать книгу онлайн
Рина Васильевна Зеленая (1902–1991) по праву считается великой комедийной актрисой. Начинала она на подмостках маленьких театров Одессы и Петербурга, а когда открылся в Москве Театр Сатиры, ее пригласили в него одной из первых. Появление актрисы на сцене всегда вызывало улыбку — зрители замирали в предвкушении смешного. В кино она играла эпизодические роли, но часто именно ее персонажи более всего запоминались зрителям. Достаточно назвать хотя бы такие фильмы, как «Подкидыш», «Весна», «Девушка без адреса», «Каин XVIII», «Дайте жалобную книгу», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так мы «брали города». Конечно, было трудно.
И надо было преодолевать в каждом городе заново и страх, и барьеры чужого языка.
Моим «мистером Хиггинсом» был дирижер маленького английского оркестра, который ездил с нами по городам, где нас никто не знал. Однако у меня все-таки нашелся один знакомый.
Однажды во время концерта меня вызвали за кулисы: ко мне пришел высокий человек в одежде священника. Мы поздоровались.
— Мадам Кэтрин, — сказал он (меня отправили по паспорту как Екатерину, а афишу делали англичане, которые так и писали — Кэтрин), — простите меня. Вы меня не знаете, а я вас знаю.
Ну, я думаю, еще бы: конечно, слушал меня по радио или на пластинке. Оказывается, ничего подобного! Он объяснял мне:
— Видите ли, я очень люблю кошек. И вот в журнале «Советская женщина» я видел снимок вашей кошки. Вы сидели вместе с ней. И поэтому я вас знаю. У вас очень красивая кошка.
Вот видите, какие бывают знакомства! Но мне тоже досталось какое-то количество комплиментов. Хорошо, что я немного умею говорить по-английски. Он сказал, что я им очень понравилась.
— Знаете, мадам, — сказал он еще, — дело в том, что англичан надо удивить. И вы это сделали. Мы слышали певцов и скрипачей, но чтобы актриса говорила, как наши дети, — это удивительно. А кто вас научил этому?
Я объяснила ему, что научить этому могут только дети, и в первые дни я часами простаивала у витрин игрушечных магазинов. Где мне было еще взять английских детей, чтобы услышать их интонации?! А кроме детей, никто вас научить не может, никакой профессор не сможет объяснить вам, как говорят английские дети. Вот какое дело…
Столько надо было увидеть здесь повсюду, запомнить и понять, так хотелось повидать этот Лондон, о котором с детства читали у Диккенса. То, что успели посмотреть, казалось знакомым, именно таким, как ты ожидала. Или вдруг совсем не таким, как тебе представлялось. Наш «любимец» Л. не велел нам ходить ни туда, ни сюда, вообще лучше никуда. Сам он ничем не интересовался и днем спал у себя в номере. А тут вскоре мистер Борсдроф уволок нас из Лондона по своему плану в другие города.
Было известно, что спустя какое-то время мы должны быть снова в Лондоне, потому что Би-би-си будет записывать некоторые номера для телевидения. Кого именно они выберут из программы, еще не было решено.
Все действительно так и произошло. Через две-три недели нас снова привезли в Лондон, прямо в Би-би-си. И те несчастные, кого выбрали для записи, в том числе и я, сидели целый день в здании старого Би-би-си (новое еще не было закончено). Мы даже обедали тут, не выходя на улицу. Остальные целый день ездили по Лондону, смотрели всё, гуляли по Гайд-парку, были в Тауэре.
Ожидая записи, мы сидели в большом зале, и один из участников нашей группы, удивленно разглядывая какие-то неведомые зачехленные предметы, сказал как бы самому себе:
— Подумать только! Где мы сидим? В Би-би-си! Ведь это просто сарказм!
В тот же день нас увезли из Лондона. Я только успела прокатиться по Темзе, увидеть фасад Тауэра и Биг-Бен.
Много раз я слышала выражение «зеленая Англия». И увидела, что это истинная правда. Англия совсем зеленая, изумрудная. Нет ни одного голого клочка земли, даже в городах. Все зеленое, какого-то особенного зеленого цвета. Такой зеленой травы, газонов я больше не встречала нигде никогда, хотя газоны есть во всем мире. И главное — по этой траве можно ходить. Велят ходить. Я шла к зданию какого-то маленького музея внутри ограды и искала дорожку, стараясь не ступать на траву. А господин в шляпе — видно, сторож или садовник — сказал мне улыбаясь:
— Идите прямо по траве. Не беспокойтесь, газон ничего не боится. Идите прямо, здесь ближе ко входу.
(Это как в Персии: там на базаре лежали на дороге ковры, и торговцы велели ходить прямо по ним.)
Эрмитаж
Я, кажется, писала о том, что меня не научили любить музыку. И так я прожила всю жизнь. Но поэзия была для меня, наверное, какой-то заменой. Я наслаждалась ею, она была мне необходима, и, к счастью, я была окружена ею. В 20-х годах издавалось и продавалось бесконечное количество книг поэзии. На прилавках магазинов и в развалах можно было встретить книги Тютчева, Кузмина, Гумилева, Блока, Бальмонта — и классиков, и новых поэтов — от Анненского до Клюева и от Пастернака до Уткина.
Но самым необходимым на всю жизнь стала для меня живопись. Я люблю живопись беззаветно. Конечно, могла бы больше знать и понимать. Но вот так прожила жизнь. Стараюсь не пропустить ни одной выставки. Воображаю, что понимаю что-то. Когда бываю в Ленинграде (всегда недолго), каждый день ходила и хожу — день в Эрмитаж, день в Русский музей.
В Эрмитаже работала одна прекрасная женщина. Она ученая и писала книги, которые издавались у нас и в Берлине. Она была женой Орбели, директора Эрмитажа, и служила искусству верой и правдой всю жизнь. Когда я приходила в Эрмитаж, я звонила ей наверх, и мы встречались или около Рембрандта, или в галерее 1812 года. Я ужасно воображала о себе, когда со мной здоровались дежурные и говорили:
— Вот как вы нас любите! Приехали и сразу к нам!
Как-то раз в Эрмитаже ко мне подошел человек и попросил зайти к секретарю. Я зашла. И вдруг мне говорят:
— Ввиду вашей верности Эрмитажу вот вам пропуск на все дни, пока вы будете в Ленинграде. — И еще добавил, что раздеваться я могу без очереди, а входить с Малого подъезда, где проходят служащие Эрмитажа и ученые.
Я шла домой будто награжденная. Летела. Прошла мимо Зимней канавки, мимо Малого подъезда, посмотрела спокойно: завтра войду отсюда. И действительно явилась завтра и послезавтра (думала: вдруг выгонят?!). Шла к Эрмитажу по набережной и «воображала»: вот я иду и сейчас войду в Малый подъезд, а все идут в Главный. А я, как барыня, сама повешу пальто на вешалку без номера (не надо его терять и искать в сумке). Никогда я не мечтала, что верность будет замечена и так вознаграждена!
Но надо было видеть выражение моего лица, когда я не входила по лестнице главной, Иорданской (которую люблю безмерно и которой любуюсь каждый раз, поднимаясь и спускаясь по ней все годы), а шла, переполненная чувством гордости, через служебный вход, по коридору, мимо громадных книжных шкафов, прямо в галерею!
Так я воображала себя причастной к этим чудесам.
Как человек очень тупой в смысле ориентировки, я никак не могла выучить расположение залов Эрмитажа. И была очень счастлива, когда запомнила, хоть как пройти в зал маленьких голландцев или в зал гобеленов. Я могла себе позволить идти, не останавливаясь, прямо туда и только туда и, посмотрев долго, не торопясь, мастеров зимних пейзажей, все кордегардии[14] и другие любимые сюжеты маленьких голландцев, стоять, сколько захочу, и любоваться именно ими. А потом я отправлюсь на набережную Мойки, против «Новой Голландии», к Браудо, где дорогая Лидия Николаевна в такой огромной комнате, что в ней почти не заметны стоящие там два рояля и одна фисгармония, будет поить меня кофеем с сухарями, сделанными ею сразу на плите из булки, — и это вкуснее всех печений. А я ей буду рассказывать что-нибудь еще о любимых картинах, которые мы вместе с ней смотрели столько раз. Она будет слушать, а я буду воображать, какая я наблюдательная, хотя и не понимаю музыки (я ведь не говорю, как Наполеон: «Музыка — это самый дорогостоящий вид шума»),
В Эрмитаже я открыла для себя еще совсем новое зрелище. Я хожу теперь по залу второго этажа от Зимней канавки к Главному входу и смотрю не на картины, а только в громадные окна, выходящие на Неву. В каждом окне новый кадр — огромная Нева и громадное небо. Каждый пейзаж еще особо окрашен. Даже в сумеречный день все розово-голубое, ибо стекла окон изготовлены так, что имеют свойство давать сиренево-розовый отсвет.
А если день ослепительно солнечный, то надо скорее идти к «Блудному сыну», но смотреть не на сына и не на его голые пятки. Там, в глубине картины, за ним, стоит девочка, она почти тает в темноте, но в такой день ее можно ясно увидеть. А самое удивительное — можно на ее шейке разглядеть ярко-красный коралл на ленточке. Вот это я видела и все ходила и «воображала». (Это словечко я очень часто говорю — оно ко мне попало от детей. Слово очень емкое и многое может определить.)