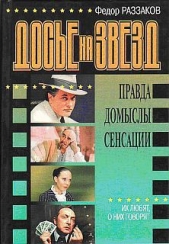Причуды моей памяти

Причуды моей памяти читать книгу онлайн
Новую книгу Даниила Гранина нельзя отнести к какому-либо литературному жанру, в ней он отступил от своей привычной стилистики. Книга-размышление написана в форме кратких заметок, охватывающих промежуток времени от конца 30-х до наших дней.
В этих изящных новеллах автору удалось передать гнетущую атмосферу послевоенных 40-х годов и ее воздействие на человеческие судьбы. Беспощадны его мастерские «штрихи», рисующие современную действительность. Важные серьезные вещи перемежаются заметками из записных книжек об увиденном и услышанном — нелепом, смешном, анекдотичном…
Художественное оформление И.А. Озерова
Иллюстрации В. Мишина и А. Мишиной-Васьковой
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В Бога она действительно верила, тайком от нас молилась (детки-то были коммунистические), крестик нательный носила всегда. Между прочим, отец наш очень уважал ее веру в Бога, а нас ругал, когда мы по глупости над этим потешались.
Сейчас я не могу видеть этих телеспектаклей массового фарисейства, но Полину веру уважаю до сих пор.
Весной 1942 года Поля стала работать на Охте на сломе старых домов на дрова. Очень тяжелая работа для голодного человека. И в такую даль приходилось ходить! Она отекала, так как много пила воды. Вечером кипятила воду с лавровым листом, это как-то напоминало мясной суп. Потом мы просто кипяток пили, а она говорила: «Чайничек на всех и по чайничку на каждого!».
И еще случилась беда. Одна знакомая девочка, наша подружка и дочка друзей родителей наших, встретила меня на улице, пришла к нам в гости, осталась ночевать и… украла у нас карточки. Мы ей сами показали, где они лежат, и похвалились, что вот все вместе живем и ничего ни у кого не пропадает. Она еще стащила ключ от квартиры и днем явилась, когда никого не было дома, и стащила полученные накануне по карточкам 300 г. лапши и еще чего-то из еды у соседок. Это был для нас с Полей конец! Когда это все выяснилось и мы с Полей пошли к ее маме забрать карточки, то ничего уже не было на них, она все талоны проела в столовых что ли. Мы были обречены. Это было 2 мая — и до конца месяца ничего не осталось, ничего! И тут мать моей одноклассницы, которая работала в том же госпитале, где и я (в здании Финансово-экономич. ин-та), сказала мне: «Сдавай остатки своих карточек и поедешь на подсобное хозяйство от госпиталя; да и Поле без тебя легче будет выкрутиться». Так я поехала в Мяглово под Невскую Дубровку — знаменитое место.
Поля осталась одна. А я как-то на крапиве, лебеде и корнях от лопуха выжила. Но цинга была такая, несмотря на крапиву, что стоило наклонить голову, — в ладошке была кровь изо рта, и зубы крошились, и нога плохо разгибалась. Потом, когда подрос турнепс и брюква, то нам иногда немного давали, да еще удавалось немного тайком пару штук добыть, и я раз в неделю топала пешком или, реже, на попутной машине в город. Это км 30 до городской заставы на Охте. Я приходила домой, и если Поля была дома, то такая была радость! Отдавала ей все турнепсины и брюквы. А она мне все, что урывала от себя. Иногда были письма от мамы, папы, от Зори. Я ночевала дома, а наутро трогалась обратно.
Летом Поля могла уехать на Большую землю, но из-за меня не уехала. Каким-то образом людей отправляли. Но вот она осталась! И еще. Зимой 42-го года и летом из Ленинграда выслали людей с нерусской фамилией. Соседке, Елене Савельевне Шедлих, пришлось так уехать. И мне тоже пришла повестка. Но меня в городе не было, а потом так это и сошло. А то ведь выслали в определенное место и под надзор: надо было ходить отмечаться где-нибудь в Джамбуле или Намангане. И обратно уже после войны не разрешали возвращаться. Выслали бы и меня так, и не была бы я теперь «участница ВОВ» (очень это «умилительная» аббревиатура), и не была бы теперь «прикреплена» к магазину в этой Виннице, где я живу. Завидная судьба! Смолоду и до старости быть прикрепленной к магазину, где все равно ничего нет. Но Поля-то, может быть, и спаслась бы!
У нас сохранилась Полина открытка, которую она послала маме, когда я в Мяглове была. И это ее послание говорит о величии ее души — иначе не скажешь.
Она маме писала так, чтоб не пугать ее, чтобы мама думала, что все у нас в порядке. Вот я ее перепишу, сохраняя Полину орфографию. Неграмотная была она, но сколько в ней истинной интеллигентности!
«Добрый день тов. Бакинская (это в лагерь!) это пишет поля. Бакинская, я вчера получила от вас открытку которая послана 8/VII 42 но я тоже пишу вам часто но почему вы их неполучаите низнаю нам тетя Аня из Баку прислала 150 руб но мы в деньгах нужды ниимеем потому что мы с Галяй работаем но как обе работаем то конечно жить легче от Зори писма получаем часто она писма пишет хорошие здорова и сыта а это самое основное. Галя работает в подсобном хозяйстве выращиваит овощи тоже ниплохо но только ей трудно потому что она никогда (непонятное слово) но она пошла охотно на эту работу сама ей хотелось загородом лето провести время ну это ничего опять было бы здоровье. Мы дружим уже давно. Между нами плохого не было ну писать кончаю напишу писмом Досвидания 2/VIII 42 г. Поля». Вот так. Ни о чем плохом: ни о голоде, ни о карточках, ни о том, что Зоря там, в Сибири, лежала в больнице с тяжелой хореей, ни о том, что сама она уже еле ходила!
Осенью я вернулась в город, и опять в госпиталь санитаркой. А Поля говорила: «Девочка, десятилетку кончила, а горшки таскаешь. Учиться надо!» Горшки мне не стыдно было таскать, но в школу медсестер я пошла. Так мы и жили с ней, все худели, уже еле ноги волокли, хоть вроде и пайки увеличили немного. Но дистрофия была такая глубокая, что лучше не становилось. Вообще я знаю, что зимой 41/42-го года умирали сначала мальчики, потом мужчины, а женщины уже позже. Такие необратимые были изменения в организме, что трудно было выйти из дистрофии. И женщины умирали зимой 42/43-го года, да и позже.
Я уже еле ходила к началу 43-го года. Школа медсестер была на Кирочной, недалеко от дома, а я уже с трудом добиралась. Поля почти не вставала. В начале января 43-го года начальник школы медсестер вызвал меня и сказал, что может отправить меня в госпиталь медсестрой (хоть курс был годичный, а я ходила всего 2 месяца), т. к. наши войска вот-вот пойдут на прорыв блокады, и будет много раненых, сестры будут нужны. А если я останусь в школе, то не выживу. Он видел, что я уже плохо хожу, и жалел. И не меня одну. Спросил только, смогу ли я писать рецепты по-латыни. Я сказала, что смогу.
И вот перед самым прорывом блокады отправили нас, группу полудохлых девочек, в эвакогоспиталь № 1015 — на Васильевский остров (раньше и теперь это клиника им. Отта), около Университета. Я все помню: как мы брели туда по всему Невскому, потом от Адмиралтейства — наискось по льду Невы — к Университету, как привели в госпиталь. Как накормили, дали хлеб и сказали, чтоб мы не ели его сразу, а то плохо будет; а мы не удержались и, пока стояли перед кабинетом начальника госпиталя, съели весь хлеб.
Первые несколько дней отпускали домой по вечерам, а с 20/1 перевели на казарменное положение, хотя мы имели «статус» вольнонаемных медсестер (я так думаю, по соображениям экономического характера: из зарплаты вычитывали за питание и обмундирования не надо было давать).
С первого дня я стала оставлять от завтрака, обеда и ужина, что могла, безумно старалась удержаться, чтобы все не съесть, и вечером плелась домой на Некрасовскую со свертком для Поли. Она почти уже не вставала с кровати, не могла ходить. Я садилась около нее, давала ей по кусочку хлеба, мяса или рыбы. Очень это было мало! А она смотрела на меня со слезами на глазах и говорила: «Ты моя кормилица!» Да уж!
26 марта этого — 1993 года — было 50 лет со дня ее смерти. Я свечку на окне зажгла в память о ее святой душе! И позвонила в Питер сестре, и мы ее вдвоем помянули, нашу бедную Полю!
Госпиталь был нейрохирургический, лежали там черепно-мозговые раненые, с контузиями, работа была адская, но как-то о себе не думалось. Об этом тоже можно много написать, но я все стараюсь — о Поле. Это мой долг перед ней. Кто же скажет о ее судьбе? Мы с сестрой уйдем — и никто не вспомнит о ее судьбе блокадной, о ее подвиге человеческом. Родных ее, наверное, давно нет, а если кто и остался, то ничего об этом не знает. Сестра ее родная, Марфуша, жила в Москве. Тоже судьба — типично советская, кошмарная!
Пока жива была наша мама (после «реабилитанса»), она ее навещала, когда приезжала в Москву, и я у нее была несколько раз (Марфуша почти всю жизнь прожила в общежитии), и сестра у нее бывала. Но уже много лет, как она умерла, а с другими ее родными мы связаны не были.
Так вот, когда нас перевели на казарменное положение, домой ходить не разрешили. Дежурили мы через сутки — сутки, каждый раз устраивались поверки. Я плакала, просила — нельзя было и все. А в конце февраля отправили в Пэри на лесозаготовки для госпиталей. Возражать не приходилось — приказ! Я просила хоть два дня, чтобы отвезти Полю в стационар; ей наконец дали такое направление, а отвезти некому было. Но мне не разрешили, сказали, что потом отпустят на несколько дней. И так я поехала.