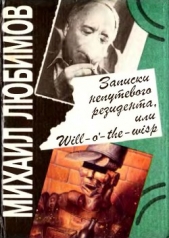Записки советского интеллектуала

Записки советского интеллектуала читать книгу онлайн
Михаил Григорьевич Рабинович (1916–2000) — известный археолог и этнограф. Публикуемые воспоминания, в которых неразрывно переплетаются лирика и юмор, отражают различные этапы жизни страны и его жизни: учеба в горно-химическом техникуме, работа мастером на руднике в годы индустриализации, учеба на историческом факультете МГУ, военная Москва, руководство раскопками в Зарядье и в Кремле, кампания борьбы с «космополитизмом», работа в Музее истории и реконструкции Москвы и в Институте этнографии. Перед читателем проходят родственники и друзья автора, известные писатели и ученые (В. Каверин, Е. Дорош, А. В. Арциховский, М. Н. Тихомиров, С. Д. Сказкин, М. Я. Гефтер и др.).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На обратном пути повстречался Каверин уже в машине: погнутую вчера дверцу починили.
— Я вас очень понимаю. Вам непременно надо было побывать здесь одному. Как мне во Пскове.
И мы поехали в Антоньев, где тоже было все по-старому.
Ранним по-осеннему вечером Кислов показывал нам вещи.
— И очень много здесь ваших любимых вещей с надписями, — сказал он, видимо, вспомнив наши раскопки в Москве.
Да. Новгород и Москва — обе мои привязанности. Первая — как светлая юность, вторая — как рана, еще не затянувшаяся.
Как замечательно, что мне привелось еще раз побывать в Новгороде. Работать здесь уже не тянет — слишком болит еще Москва. Да и все здесь уже далекое все-таки. И нет никого, с кем прежде работали. Кроме Артемия. А его-то я здесь и не увидел.
Рано утром попытался разыскать Вантуриных. От домика их нет и следа. Кто-то сказал, что Татьяны Васильевны нет уже на свете, а мужа не стало еще раньше.
Днем выехали из Новгорода, и не только я был в элегической задумчивости. Кажется, и Каверину было немного грустно. Помалкивали до самого Валдая. Уж среди озер нельзя было ехать, не восхищаясь громко. А там пошли и другие разговоры — о Новгороде, об археологии, об общих знакомых, просто о людях, наконец — о литературе. Вениамин Александрович отнюдь не был высокомерным мэтром. Много лет спустя понял я, как был неправ, например, в оценке Зощенко, но он тогда не показал всей поверхностности моих суждений, хоть, кажется, было легко. Рассказывал он и о себе. Тут я узнал и его допсевдонимную фамилию — Зильбер.
И, уже подъезжая к Москве, вдруг:
— Только вы, Михаил Григорьевич, не говорите, что мы перевернулись. Уж простите меня за это.
— Что вы, Вениамин Александрович! Да стоит ли об этом говорить? Поверьте, я отнюдь не считаю это происшествием.
— Правда? — он явно обрадовался.
С той поездки началась наша дружба, которая длится до сих пор.
Что же подружило нас — Новгород или Москва?
Пожалуй, все-таки Москва. Как-то я спросил Вениамина Александровича, почему он обратился за консультацией именно ко мне.
— Знаете, у меня есть приятельница-археолог. Она работает в Музее изобразительных искусств. Я спросил у нее, с кем бы посоветоваться. Она сказала о вас: его затирают и уже совсем затерли.
Так, значит, вот кому я обязан этим путешествием в Новгород и новой (теперь уже старой) дружбой! Светлане Ходжаш!
А Новгород я повидал (не скажу, чтобы был там) еще раз почти через четверть века. Это была прелестная поездка по Пушкинским местам и на Псковщину, как раз в каверинские места. Завернули и к Новгороду. Постояли, может быть, час, даже меньше. Побывали в Кремле и видели с берега Волхова Софийскую сторону. Восхитила работа реставраторов, но все же в памяти впечатление — как от туристской открытки: красиво — и только. Нет, если удастся, поеду в Новгород еще хоть раз.
Николина гора — Москва, 8–17 августа 1982 г.
Пятьдесят третий
Наконец-то выпал снег. Еще вчера его почти не было. Какой-то жалкий, дырявый саван, сквозь который были видны красноватые язвы промерзшего поля и обломанные кости леса. А сегодня лег настоящий, пушистый, белый до боли в глазах ковер! Все линии стали плавными, ничего не торчит. Куда ни глянь — ощущение чудесной естественной гармонии. И лед речки прикрыт рыхлым, еще не успевшим слежаться снегом, расступающимся с легким скрипом под напором лыж. Вновь вышло солнце, и, озаренные его лучами, как жар горят темно-красные стволы сосен, вырастающие прямо из дна огромного оврага, что впадает в речку за ближайшим поворотом. Высокие, прямые, мощные — что называется, корабельный лес. Ему, наверное, больше века — да ведь и я знаю эти чудесные сосны уже не один десяток лет.
Но за последние двадцать лет к восхищению примешивается и совсем другое чувство, в котором деревья ничуть не повинны.
Двадцать лет тому назад — в феврале 53-го…
От той зимы в нашем альбоме сохранилось много карточек. И на всех — солнце, и заснеженный лес, и крутой обрыв берега, и эти самые сосны. На одних фотографиях — мы с маленьким Гришкой на лыжах, на других — Гришка с Леной пешком. Все улыбаются — какая счастливая семья!
А время было совсем не счастливое.
В тот год впервые после изгнания из Академии наук взял я отпуск и поселился в любимом моем Звенигороде, но, конечно, уже не в академическом Поречье, а по соседству, в другом Поречье — доме отдыха Министерства вооружения.
Нужно сказать, что вообще, как ни тяжела была вся эта история с прекращением работ Московской экспедиции, она дала мне жизненный урок — показала, что свет клином не сошелся на Академии наук, что и вне ее есть жизнь и работа. Взять хотя бы основное — из Академии меня выгнали, чтобы археологией Москвы не занимался Рабинович, — по мнению самых высоких инстанций, это было недопустимо. Но меня-то оставили как раз в Музее Москвы, где я ничем иным заниматься не мог. Более того. Прекратить начатое дело оказалось невозможным. Просто академический институт этим не занимался. А работа пришла в музей. К тому самому Рабиновичу.
Одно время меня даже не печатали — почти как «врага народа», но вскоре оказалось, что, во-первых, нельзя вынуть моих глав из многотомных изданий, а во-вторых, что меня охотно печатают под псевдонимом. Псевдоним придумал мой старый друг Альберт Кинкулькин.
— Подписывайся ты М. Григорьев — и дело с концом!
И в первый же год «Вечерка» [145] напечатала целую серию статей М. Григорьева «Из истории столицы». Псевдоним этот был тут же раскрыт Большой советской энциклопедией, напечатавшей в списке авторов: «М. Григорьев (М. Г. Рабинович)», но никаких неприятностей не последовало. Похоже, что высшему начальству было не до меня, а начальство среднее понимало эту кампанию по-своему и считало задачу выполненной, удалив еще одного Рабиновича с высокооплачиваемой должности.
Так или иначе, зарплата уменьшилась вчетверо, но я прирабатывал пером, и вот уже на следующий год можно было даже позволить себе купить относительно дорогую путевку в этот дом отдыха. Кстати, и он оказался во всех отношениях не только не хуже, а даже лучше академического. Здесь я поселился в небольшой, но отдельной комнате — честь, которая там оказывалась только членам-корреспондентам Академии наук СССР!
Публика тоже была вполне приличная — инженеры, артисты, со мной за столом — полковник-географ, ученик Н. Н. Баранского. Здесь отдыхали и тренировались две спортивные команды — шахматистов и… боксеров. Среди них — бывший чемпион СССР Королев и будущий чемпион мира Петросян. Петросян казался совсем мальчиком. Как-то нам удалось вызвать его на «разговор за жизнь».
— А зачем мне учиться? — говорил он, подняв свой чеканный горбоносый профиль, непринужденно засунув руку в карман пиджака так, что большой палец торчал наружу. — Семь классов окончил, а више — шахматам не научат!
Очень я был удивлен, прочтя через несколько лет, что гроссмейстер Тигран Петросян — аспирант какого-то института.
Запомнился Королев — скромный, сдержанный и вместе с тем откровенный.
— Знакомо ли вам чувство страха? — спросили его на беседе.
— Как не знакомо! Очень знакомо! Вообще я вам скажу, что если кто и говорит, что не боится, то или врет, или здесь (он покрутил пальцем у бритого виска) что-нибудь не в порядке. Как можно не бояться, если тебе сейчас по морде дадут? Другое дело — как совладать со страхом.
Словом, было интересно.
К тому же со своими академическими друзьями я встречался каждый день — ведь мы были всего в трех километрах! По-прежнему ходили на лыжах с Виктором Никитичем Лазаревым. Он старше меня лет на пятнадцать — значит, тогда ему было за пятьдесят. А мы почти каждый день проходили километра 32–33. Теперь я уже не помню, когда прошел 30 километров. Виктор Никитич мгновенно надевал лыжи и устремлялся на дистанцию, не оглядываясь, справился ли я уже с ремнями своих тяжелых «Карху». И если он успевал исчезнуть за поворотом, мне было уже его не догнать. Главной заботой было не потерять из виду хотя бы помпон его шапочки — тогда на второй половине пути сказывались мои более молодые годы, и приходили мы вместе.