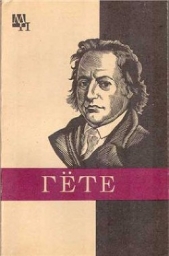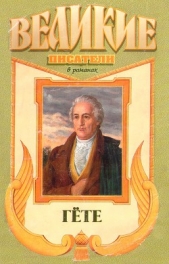Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни

Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Эй проворнее, Хронос!
Клячу свою подстегни!
Путь наш теперь под уклон.
Мерзко глядеть, старина,
Как ты едва плетешься.
Ну, вали напролом,
Через корягу и пень,
Прямо в кипящую жизнь!
(Перевод В. Левика — 1, 91)
К «бравому» Хроносу Гёте обращается как к кучеру. Здесь он выступает как бог времени (Хронос) и
272
отец богов (Кронос) одновременно. Гёте призывает его действовать энергично и без промедления. Уже в последней строчке этой первой строфы прямо говорится о том, что езда в экипаже символизирует путь жизни. Итак, перед нами стихотворение, каких много в поэзии Гёте, и многое в нем можно рассматривать как девиз всей жизненной позиции Гёте: «Ну же, не медли, / Бодро и смело вверх!» Слова эти, впрочем, легче сказать, чем претворить в действие, особенно для человека, не отягощенного заботами и не знающего нужды. Очень может быть, что пятая и шестая строфы, где автор, находясь на вершине жизни, мечтает о смерти: «До того, как меня, старика, / Затянет в болото, / Беззубый зашамкает рот, / Завихляют колени», отражают некое разочарование, порожденное в юном Гёте обликом стареющего Клопштока. След этого впечатления сохранился и в «Поэзии и правде».
Что до гимна, то его финальные строки звучат победоносной уверенностью в своих силах:
Дуй же, дружище, в рог,
Мир сотрясай колымагой!
Чтобы Орк услышал: властитель едет,
Чтобы внизу со своих седалищ
Привстали могучие.
(11, 92).
Какая уверенность в себе, какое стремление чувствовать себя победителем после прекрасно прожитой жизни, победителем, которому оказывают почести владыки мира! Пятнадцать лет спустя это показалось Гёте слишком большой самоуверенностью. Для издания в 1789 году в собрании сочинений он изменил это место, ослабил накал, смягчил на веймарский манер, лишил выразительной силы:
Чтоб Орк услыхал: мы едем!
Чтоб нас у ворот
Дружески встретил хозяин.
Клопшток беседовал с Гёте не столько о поэзии, как можно было ожидать, сколько «об иных искусствах, которыми он занимался как любитель» («Поэзия и правда»). Разговор зашел и о катании на коньках, которое Клопшток прославил в оде «Бег по льду». С некоторых пор и Гёте проникся восторгом к этому прекрасному «виду движения», с удовольствием ка–273
тался на коньках и позднее в необычайно наглядных образах описал это занятие как аллегорию движения жизни. Это стихотворение — «Песня о жизни на льду» (датировка не совсем точная, возможно, что оно было написано позднее, веймарской зимой 1775—1776 годов, — так же как и гимн «Бравому Хроносу», представляет собой нечто в высшей степени характерное для поэзии Гёте.
ПЕСНЯ О ЖИЗНИ НА ЛЬДУ
Беззаботно смотришь на гладь
И видишь, умелой рукой
Там тебе не проложен путь.
Сам пробивай себе путь!
Не бойся, милый дружок.
Треск еще не провал!
А провал не на гибель тебе!
(Перевод Н. Берновской)
Здесь, как и в гимне о Хроносе, жизненный путь показан непосредственно и в то же время особый случай отражает нечто общезначимое. При этом смысл отдельных жизненных поворотов и их образного воплощения отнюдь не определяется неким кодексом предусмотренных понятий, он непосредственно раскрывается в поэтическом созерцании, каждый раз становится его открытием.
«Подумай о том, дорогой, что начало и конец всякого писания есть воспроизведение мира, окружающего меня, с помощью внутреннего мира, который все в себя вбирает, перемешивает, пересоздает и вновь отдает в своеобразной форме, в ином виде. Это останется вечной тайной, слава богу, я не собираюсь раскрывать ее бездельникам и болтунам» (письмо Ф. Якоби от 21 августа 1774 г.).
Что вбирает в себя взгляд поэта, как он эти впечатления толкует, какое значение им придает — это, разумеется, определяется личностью поэта, его жизнью, его окружением и опытом. Всегда остается открытым вопрос, было ли бы вообще воспринято то или иное явление и как бы оно было воспринято в условиях другой жизни, другого опыта; этот вопрос стоял тогда, стоит и теперь.
«Сам пробивай себе путь!» — обращается автор «Песни о жизни на льду» к себе самому и к другим. Придать мужества тем, для кого еще не проложен путь, чтобы они могли уверенно вступить на него. Но кому
274
предназначен этот ободряющий призыв? Может ли он сейчас, как и тогда, иметь значение для тех, кто в силу обстоятельств своей эпохи и жизни не имел или не имеет возможности сам определять свой жизненный путь? Если подумать, например, о несчастной жизни Якоба Михаэля Рейнхольда Ленца и его неудачах в Веймаре — разве это не будет доказательством того, как ограничены возможности подобных призывов? Разве они не прозвучат цинично? Нет, конечно, Гёте не имел в виду беспомощных и обойденных судьбой, конечно, не хотел отделаться от них таким образом. Для таких и строки из гимна «Бравому Хроносу» должны были звучать лишь как прекрасные слова, не имеющие отношения к их собственной жизни: «Далеко вширь и ввысь, / Жизнь простерлась кругом. / Над вершинами гор / Вечный носится дух, / Вечную жизнь предвкушая» (1,91).
Эти и подобные стихи надо одновременно увидеть и понять еще и с другой точки зрения. В них отразился высший накал оптимизма «бурных гениев». Он переходит через все известные и предполагаемые пределы. Из этого чувства рождаются проекты желаемой жизни, которые не могут быть измерены аршином обыкновенности. Поэзию вообще нельзя вычислить в ее соотношении с реальностью. Правда, при такого рода «сверхмужественных» пожеланиях, признаниях, требованиях всегда остается открытым вопрос о том, в какой мере, если вспомнить слова Макса Фриша, сказанные о стихах Брехта, они способны устоять под натиском мира, в который брошены.
Стихи об искусстве и о художнике
«Бравому Хроносу» и другие большие гимны юношеских лет — это стихи, полные энергии и надежды. Они не говорили о художнике, гении, великом человеке. Они сами были выражением необыкновенной жизни, утверждали себя как творение гения. Но в некоторых произведениях этого времени Гёте как бы со стороны смотрел на новые направления в искусстве и нового художника. Это были размышления о том, что гимны выражали прямо и с полной непосредственностью. Их можно считать стихами об искусстве и понимании искусства. Многие из них стихи на случай, с легкостью зарифмованные письма, посланные друзьям. Это Гёте всегда любил: придать письму сво–275
бодную, как бы стихотворную форму, перемежать текст письма стихотворными строками или написать его в стихах целиком. Тут он позволял себе полную свободу, развлекался употреблением смачных словечек и рискованных сравнений. Так однажды, обращаясь к Фридриху Вильгельму Готтеру, знакомому со времен Вецлара, руководившему в Готе любительским театром, он в июне 1773 года в длинном озорном стихотворном послании предложил своего «Гёца фон Берлихингена»:
Шлю тебе нынче старого Гёца —
Надеюсь, что место на полке найдется
Среди книжек, коим — почет и честь
(Или тех, что ты не собрался прочесть).
[…]
Так разыщи же в своем дому
Дельного парня и выдай ему
Роль моего любезного Гёца —
Шпагу и шлем, — авось не собьется.
[…]
Наведи на похабщину малость глянца —
Сделай задом — ж…, мерзавцем — заср….,
И, как прежде, со рвением и охотой
В том же духе всю пьесу мою обработай.
(Перевод Е. Витковского — 1, 126—127)
4 и 5 декабря 1774 года Гёте отправил два длинных письма–стихотворения Мерку. Позднее в стихотворных сборниках они публиковались с другой последовательностью строф под названием «Послание» («Вот старое Евангелие/ Опять тебе тут шлю я») и «Вечерняя песнь художника». Это последнее как фрагмент письма к Мерку было, также без заголовка, послано Лафатеру и опубликовано им под названием «Песня рисовалыцика–физиогномиста» в первой части его «Физиогномики» (1775).