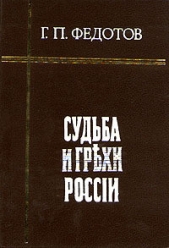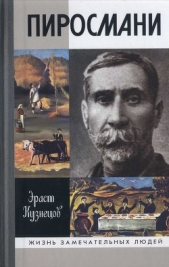Павел Федотов

Павел Федотов читать книгу онлайн
Книга воссоздает драматические обстоятельства жизни и творчества выдающегося русского живописца и графика первой половины XIX века Павла Федотова, автора знаменитых полотен «Сватовство майора», «Вдовушка», «Анкор, еще анкор!», «Игроки» и др. Черты личности художника вырисовываются в воспоминаниях современников, в собственных литературно-поэтических сочинениях Федотова и, главное, в его живописи.
Автор — известный искусствовед и историк Эраст Давидович Кузнецов, уделяя особое внимание уникальной роли Федотова в становлении русского бытового жанра, раскрывает смысл, своеобразие и значение его творчества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как ни прекрасны по-своему были прежние, ранние портреты Федотова, ни в одном из них он, пожалуй, не смог бы достигнуть такой высоты, как в портрете Наденьки Жданович. Портретирование мало-помалу увлекло его и незаметно из занятия подсобного, пусть и обладающего своей притягательностью, стало превращаться в дело, имеющее собственный смысл и требующее специальных усилий, подобных тем, которые употреблял он при работе над картиной.
Он уже не мог просто усадить Наденьку Жданович так, как ей удобно сидеть, и запечатлеть вместе со всем, что попадет в поле зрения и уместится на холсте. Нет, он велел ей сесть так, как ему нужно было, как ему виделось, на выбранный им стул с упруго изгибающейся спинкой — чтобы гибкая линия молодого девического стана по-своему отразилась в этой спинке. Он не стал писать комнату, в которой сидела Наденька, — ни стен с обоями, ни мебели, ни безделушек и портретов по стенам, от всего отмахнулся, все заменил неправдоподобно чистым золотистым фоном: будто бы и стена (на нее даже тень от фигуры легла), но и не вполне стена, и не важно, что именно, важно, что фигура рисуется на этом фоне с подчеркнутой отчетливостью как в классическом барельефе, и на холсте предстал не один из уголков дома Ждановичей вместе с одним из его обитателей, а сам этот обитатель как высшая цель художника.
Потом, уже отдельно, не желая мучить девушку зряшным сидением, написал перед нею клавесин красного дерева, вместе с руками, положенными на клавиши, словно девушка на мгновение оторвалась от игры и повернула к зрителю свою чудесную темноволосую головку, глядя со сдержанным интересом, — не таясь от чужого внимания, но и не стремясь себя выказывать, наблюдая или ожидая чего-то, спокойно и естественно.
Заметил ли, что поспешил и немного ошибся в рисунке? Клавесин, написанный с немного иной, более высокой точки зрения, будто вздернулся и как бы прошибает стену, в которую должен упираться, и левая рука, вынужденная следовать за клавиатурой, укоротилась ненатурально. Должен был заметить, да еще мог грустно усмехнуться — Брюллов, с пяти лет приученный к карандашу, этого бы не допустил! Однако переписывать не стал, не до того было. Проживи он немного дольше — и, может быть, портрет завладел бы им властно и требовательно и он вышел бы в первые портретисты.
Да только ли в портретисты?
Среди множества дел и замыслов промелькнула и затерялась крохотная картинка «Зимний день» — в сущности, не что иное, как этюд, быстро сделанный прямо из окна, с прибавлением двух фигур, стремительно набросанных, но притом сохраняющих характерность: одна из них, расположенная поодаль, на тротуаре 20-й линии, обозначала Дружинина, другая, на тротуаре линии 21-й, заметно ссутуленная и мешковатая, со свертком бумаг в руках, — самого художника.
Не знаменательно ли, что он — пусть ненароком, мимоходом и явно не придавая серьезного смысла сделанному, — воротился к тому, с чего начинал когда-то, — к своему первому «опыту передразнивать натуру», и вновь захотел запечатлеть «пустой перед окнами вид»?
Все тот же, проевший глаза длинный скучный забор с воротами, а за ним вдали крыши строений да несколько деревьев — мотив ничтожный, заурядный, и немыслимо представить себе, чтобы им прельстился хоть один из признанных пейзажистов того времени. Федотов не был пейзажистом, он и прельстился, и с поразительной ощутимостью передал особое состояние петербургского зимнего дня, его влажно-морозного воздуха, его неба, светящегося сквозь невидимую пелену, и саму томительно-сонно тянущуюся глухую утреннюю сумеречность, незаметно переходящую в сумеречность вечернюю. С пейзажем этим по точности и непосредственности выраженного впечатления могут потягаться разве что сделанные 15-20 лет спустя петербургские этюды юного Федора Васильева, так выделяющиеся среди его более известных работ — привлекательных, но все же слегка прикатанных навыками академизма.
И тут час Федотова не пробил, и пейзаж не завладел им, и сам он отмахнулся от непроизвольно выскочившего из-под его кисти — написал и тут же дружески презентовал Дружинину. Мимо! Мимо! Новая картина, следующая после «Не в пору гость», нетерпеливо дожидалась его.
Мысль об этой картине зародилась в нем (и, верно, сразу с названием) еще в Москве, когда с бессилием терзался над судьбой Любиньки, мучившейся при жизни мужа, а теперь повергнутой в пучину новых бедствий — долгов, нищеты, да еще в ожидании готового вот-вот явиться на свет ребенка. Уже тогда употребил он в письме к Дружинину слово «вдовушка», использовав свойство, кажется, одному русскому языку свойственное, — придавать ласковый оттенок уменьшительному обороту.
Безотрадные семейные впечатления заметно повлияли на умонастроения Федотова. Мир не желал исправляться, напротив, становился все непригляднее; если и сохранялась на что-то надежда, так только на пробуждение доброго чувства, сострадания к тем слабым, которых больнее всего разила жизнь, — к униженным и оскорбленным, мог бы сказать он, если бы роман Достоевского не был написан много позже его смерти. Раньше такие герои были у него редки — старый художник (тот, что женился без приданого, в расчете на свой талант), другой художник (тот, что писал портрет Фидельки), бедная девушка (уговариваемая сводней) — вот и всё, пожалуй. Сейчас же они настойчиво требовали его внимания. Он начал «Вдовушку».
Снова он не захотел сочинять «сложную» композицию, подробно рассказывая о бедствии. Может быть, прежде и показалось бы соблазнительным изобразить гроб, стоящий на столе в убогом жилище, толпу кредиторов, осаждающих испуганную молодую женщину, оставшуюся без покровительства, судебного исполнителя, руководящего накладыванием печатей на имущество, старушку няню, тщетно пытающуюся урезонить незваных пришельцев, и прочее (скольких живописцев, не совсем по праву почитающих себя продолжателями федотовской традиции, увлекла бы подобная сцена!), но сейчас ему интересно было не столько событие в неприглядной живописности его бытовых подробностей, сколько сама несчастная и ее горестное состояние. Все прошедшее и будущее должно было только угадываться в намеках.
У него уже был как-то сделан карандашный рисунок на сходную тему: молодая женщина смотрит на стоящий перед нею на столе портрет покойного мужа-офицера. Там всё было не то — и поза вдовы, не без кокетливости опершейся коленкой на стул, и меланхолически-жеманное выражение ее лица; не хватало лишь иронической подписи — тирады вдовы, начинающейся словами: «Ах, Жан…» или «Ах, Поль…» — и рисунок был бы как раз для несостоявшегося «Пустозвона». Однако именно оттуда пошла мысль показать рядом с живой женщиной портрет ее покойного мужа, а от этой мысли всё и стало завязываться.
Опять возник угол комнаты, обрезанный еще решительнее, чем в картине «Не в пору гость», потому что вещей нужно было показать значительно меньше, и развернутый на зрителя не прямо, а косо, потому что так получалось непокойнее, неустойчивее. На переднем плане разместилась Вдовушка, облокотившись на комод. Всё определилось довольно скоро в карандашном наброске, понадобилось лишь уточнить кое-что — подрезать композицию слева и сверху, чтобы фигура Вдовушки стала немного крупнее, не терялась среди вещей, да и эти вещи точно подобрать.
Вещей потребовалось немного. Столовое серебро, наваленное в корзину и бесприютно выставленное прямо на пол. Стул, придвинутый к опечатанной двери. Крохотный столик на одной ноге. Постель, еле видная в темном углу. На стуле свеча, но не для света, а для того, чтобы греть на ней сургуч; рядом с нею треугольная шляпа с казенной бумагой, сунутой за кокарду, — шляпа устроилась на сиденье прочно, по-хозяйски. На всем болтаются ярлыки с печатями.
Только несколько вещей остались не поруганы казенным сургучом. Это комод красного дерева, а на нем портрет мужа (тут Федотов не удержался, написал себя самого, только в гусарском мундире), образ Спаса, корзинка с яркими мотками ниток для вышивания, шкатулка, папка, из которой высовывается нотный листок, толстая книжка с закладкой, может быть Евангелие (оно уже фигурировало в «Сватовстве майора»), да еще на полу прислоненные к комоду пяльцы с неоконченным вышиванием, бережливо обернутые чистой тряпицей. Это маленький островок сбившихся беспорядочно, подобно овцам в грозу, вещей — то немногое, что у Вдовушки осталось, к чему она оттеснена нашествием казенного мира, за что она держится, — кусочек ее прошлой жизни, состоявшей из незатейливых радостей и необременительных забот.