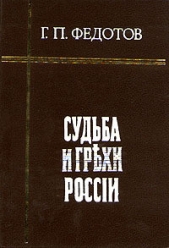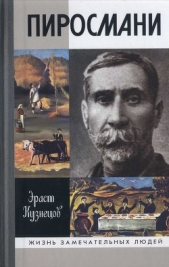Павел Федотов

Павел Федотов читать книгу онлайн
Книга воссоздает драматические обстоятельства жизни и творчества выдающегося русского живописца и графика первой половины XIX века Павла Федотова, автора знаменитых полотен «Сватовство майора», «Вдовушка», «Анкор, еще анкор!», «Игроки» и др. Черты личности художника вырисовываются в воспоминаниях современников, в собственных литературно-поэтических сочинениях Федотова и, главное, в его живописи.
Автор — известный искусствовед и историк Эраст Давидович Кузнецов, уделяя особое внимание уникальной роли Федотова в становлении русского бытового жанра, раскрывает смысл, своеобразие и значение его творчества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Упорство, с которым Федотов отстаивал «Утро чиновника…», может показаться чрезмерным — на первых порах хватило бы и одного «Сватовства майора», к печати все же разрешенного. Дело в том, что и с ним обстояло неважно. Литограф, некто Поль, будто брался литографировать, но долго тянул, ничего не делая, и в конце концов вовсе отказался, пришлось идти к другому, однако не сладилось и с тем. Да и не могло сладиться — ни на самое литографирование, ни на печать, ни на бумагу, ни на прочие неизбежные расходы не было денег, и в глазах любого дельного человека все предприятие выглядело по меньшей мере рискованным. Подписку так и не объявляли, видимо, стало ясно, что покупщиков отыщется немного.
Федотов пересилил себя и направил два письма Я. И. Ростовцеву, большому человеку, начальнику Штаба военно-учебных заведений, с которым во время оно отчасти был знаком. Письма были писаны препочтительнейше, но все же в них содержалось нечто интимное; видно было, что писал их бывший кадет, бывший офицер Гвардейского корпуса, привыкший видеть почти рядом с собою великого князя Михаила Павловича, а когда и самого Николая Павловича, и смеяться высочайше произнесенной шутке, — иными словами, «свой», имевший право на некоторую доверительность тона.
Первое письмо было как будто ни о чем: витиеватые оправдания по поводу слов, произнесенных Ростовцевым в Академии художеств, якобы Федотов «нынче ленится», — явная попытка просто привлечь к себе внимание. К письму прилагались три басни: «Усердная Хавронья», «Пчела и Цветок» и «Солнце и Тень» — имелось в виду, что Ростовцев их прочитает и проникнется содержащимся в них серьезным смыслом. Затея, мягко говоря, простодушная — Ростовцев даже не отозвался.
Во втором письме, написанном в конце ноября, когда еще тянулись хлопоты по цензуре, речь шла о конкретном деле. Подробно описав тяготы своей жизни, Федотов просил ни больше ни меньше, как о помощи — о необходимых для литографирования картины двух тысячах рублей взаймы на десять лет. Разумеется, ни помощи, ни ответа не последовало.
Правда, ему неожиданно удалось кое-чего добиться в другом месте — продолжая свои затянувшиеся ненастойчивые хлопоты по поводу казенной мастерской при Академии художеств. Свободной мастерской по-прежнему не находилось, однако обещанное когда-то императором следовало хоть как-то исполнить. В октябре 1850 года президент Академии художеств герцог Лейхтенбергский направил Николаю I ходатайство, в котором снова напомнил всю давнишнюю историю, воздал должное успехам Федотова и просил, входя в «затруднительное и даже крайнее положение» художника, взамен мастерской увеличить ему содержание до пятисот рублей серебром в год.
Казенные бумаги передвигаются не быстро, и 3 декабря, как раз тогда, когда Федотов продолжал тыкаться в цензурные инстанции и обдумывал следующее послание Ростовцеву, пришел ответ от министра двора, князя Волконского. Прибавка была дана в размере трехсот рублей, заметно превышая ожидаемое. Теперь годовое пособие Федотова составило 643 рубля 20 копеек. Впрочем, и эта существенная прибавка мало что решала в его положении, разве что чуть-чуть ослабляла петлю на шее.
В безотрадности федотовского существования — хлопот, ни к чему не приводящих, и дел, не приносящих радости, — был все-таки небольшой просвет — знакомство с Юлией Тарновской. Так неординарно начавшееся, оно прервалось сначала его поездкой в Москву, потом ее отъездом на Украину и могло остаться забавным приятным эпизодом. Но осенью она вновь оказалась перед ним, и как нельзя кстати. Тогда он, измученный и издерганный бесполезными попытками что-то устроить в обезлюдевшем и утомительно-душном летнем Петербурге, внезапно ощутил призрачность своих упований и собственную ничтожность. Появление великолепной сияющей Юлии воскресило его (он именно так ей потом и написал: «Приездом своим воскресили было меня…»). Само ее присутствие в его убогой квартирке на 21-й линии (в «моей конурке») подтверждало, что недавний (год не успел минуть) триумф на академической выставке — реальность, а не плод его воображения.
Точно ли это была любовь?
Их отношения сделались, по представлениям того времени, чрезвычайно близкими; она позволяла себе заявляться к нему с сестрой Эмилией, без сопровождения мужчины или пожилой дамы, что выглядело не совсем по-светски; кажется, она попозировала ему для какой-то из его работ и тем самым отчасти осуществила свое публично провозглашенное желание «пойти в натурщицы к художнику Федотову» (о чем «кричала на всю улицу» после одного из визитов); она даже приобрела право называть его не «господин Федотов» и не «Павел Андреич», но «Пава». Короткость знакомства одинокого художника и светской барышни породила толки среди знакомых. Федотова даже поздравляли с победой — поздравляли шутливо, он шутливо же и отвечал, но испытывал некоторую растерянность.
Существовали, впрочем, и иные щекотливые обстоятельства, также его смущавшие. Отношения Юлии с ее богатым дядей Григорием Степановичем и выглядели не простыми, да такими непростыми и были на самом деле. В обществе об этом хорошо знали и поговаривали с разного рода подробностями, вроде потайного хода, соединявшего спальные комнаты дяди и племянницы в Каченовке (что не было выдумкой: такой ход, через большой шкаф-гардероб, во дворце действительно существовал).
Федотова стали посвящать в эти обстоятельства — главным образом шутливо-аллегорически. В аллегориях фигурировала опера «Руслан и Людмила», Тарновский представал Черномором, Юлия — Людмилой, а дворец Тарновского — замком Черномора с потаенными ходами. Игривые разговоры шли преимущественно у Прянишниковых — в наиболее светском доме из всех, в какие был вхож Федотов. Не стоит видеть здесь одно лишь злопыхательство; вполне возможно, что Федотову хотели открыть глаза, уберечь от ложного шага, от положения двусмысленного или просто неприличного. Тот же Виктор Юзефович, который вполне мог почитать себя виновником несчастного знакомства и, значит, ответственным за его возможные последствия, счел необходимым предостерегающе распространяться о том, как избалована и расточительна Юлия, намекая тем самым на немалое препятствие к их соединению и совместной жизни.
Отношения Федотова с Юлией в самом деле были коротки, но неуловимы, как бы растворялись в разговорах, намеках, тонкостях поведения, разобраться в которых у него не было ни склонности, ни навыков. Незаурядная, тщеславная и эксцентричная Юлия не на шутку увлеклась им — его успехом на выставке, его остроумными рассказами об увиденном и услышанном, его экспромтами и шаржами, необычностью его судьбы, которая, верно, рисовалась ей в романтических красках, даже его нескрываемой бедностью, в которой виделось искупление будущих триумфов и неслыханного преуспеяния. Ее настойчивое, подстрекаемое его робостью кокетство стало на него действовать. Влюбленность — не влюбленность, но род волнения, обычно сопутствующего влюбленности, он уже начинал чувствовать; Юлия в самом деле разбередила в нем давно как будто отжившее.
Стали появляться у него рисунки, в которых он по излюбленной привычке как бы примерял к себе разные жизненные коллизии. Вот он, угодливо изогнувшись перед светской красавицей, принимает от нее только что отстриженный локон. Вот он натягивает на свою изрядно опустошенную годами голову парик, восклицая: «Теперь невест сюда! Невест!» Вот маленькая девочка напяливает на него же чепчик, приговаривая: «Ах, папочка, как к тебе идет чепчик — правду мама говорит, что ты ужасная баба»… Отшучивался?
Однако он ни на что не решался, раздираемый противоречивыми мыслями и побуждениями: слишком уж не вязалась Юлия со всем, что его занимало — и вольно и невольно.
Еще одна спасительная идея мелькнула у него в голове — он поначалу от нее отмахнулся, потом понемногу свыкся и убедил себя в том, что это надо сделать: написать верноподданническую картину и почтительно преподнести ее государю. Преподнести, разумеется, в знак нижайшей признательности за неусыпную отеческую заботу, но получить, как водилось, дорогой подарок (тот же перстень), да заодно напомнить о себе и, может быть, опять оказаться на виду. Предприятие не ахти какое аппетитное — Федотов был уже не тот 22-летний офицерик, что восторженно живописал встречу Михаила Павловича, но в конце концов можно было как-то извернуться, подобрав сюжет себе по сердцу.