Артур Конан Дойл
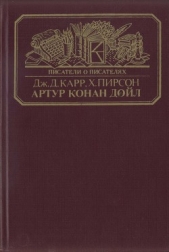
Артур Конан Дойл читать книгу онлайн
Эта книга знакомит читателя с жизнью автора популярнейших рассказов о Шерлоке Холмсе и других известнейших в свое время произведений. О нем рассказывают литераторы различных направлений: мастер детектива Джон Диксон Карр и мемуарист и биограф Хескет Пирсон.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В таком настроении встречал он Рождество 1874 года, а с ним и крупнейшее событие в его школьной жизни. Тетушка Аннет, сестра отца, пригласила его на три недели в Лондон, а показать ему город взялся дядюшка.
Рука его дрожала от волнения, когда он писал тетушке с дядюшкой о последних приготовлениях к отъезду. Стоял 14-градусный мороз; но никакой гололед, никакие снежные заносы не могли помешать ему со всем своим скарбом добраться до ближайшей железнодорожной станции. Боялся он лишь одного — что они его при встрече не узнают.
«Трудно описывать самого себя, — сообщал пятнадцатилетний юноша, — но знаю, что во мне 5 футов 9 дюймов роста, я в меру упитан, одежда темная и, главное, на шее ослепительно красный шарф».
Наконец, все дорожные треволнения позади, он прибыл на вокзал Юстон. Тетушка Аннет, величественная дама средних лет, без труда опознала красный шарф. Поселили его в студии дядюшки Дика на Финборо-роуд, которую тетушка Аннет сняла на время, пока их собственный дом на Кембридж-террас отделывался наново. Он уже отогревался чаем вдвоем с тетушкой в уютной светлой студии с бордюром из эльфов по стенам, когда туда влетел дядюшка Дик: совсем полысевший, но все такой же приветливый и неизменно щедрый на карманные деньги.
Эти три лондонские недели глубоко запали в душу Артура. Два раза он ходил в театр с дядюшкой Джеймсом — человеком с впечатляющей внешностью, с бородой почти до самых глаз, — и оба раза они занимали отдельную ложу. Сначала это был Лицеум, куда они пошли смотреть Генри Ирвинга в роли Гамлета.
«Спектакль, — писал Артур матушке, — идет уже три месяца, и все равно каждый вечер зал набит битком желающими увидеть игру Ирвинга. Ирвинг очень юн и строен, с черными пронзительными глазами, и играет великолепно».
Величавые колонны Лицеума, проступающие сквозь пелену тумана в свете газовых фонарей, беспорядочно разбросанные по площади черные кебы и кареты, увязшие колесами на шесть дюймов в подмерзшей грязи, толпы зрителей — вот привычная картина театрального разъезда. В Хей-маркете все уже показалось Артуру не так замечательно, возможно, отчасти потому, что он уже видел эту постановку в Эдинбурге. Но, впрочем, комедия ему понравилась, и в общем он остался очень доволен. Речь шла о пьесе Тома Тейлора «Наш американский кузен». Артур тогда даже представить себе не мог, при каких трагических обстоятельствах игралась она менее десяти лет назад в театре Форда в Вашингтоне, когда в правительственной ложе был застрелен президент Линкольн.
Но вернемся к Артуру: перед ним простирался могучий город. Первым делом, никому не сказавшись, отправился он в Вестминстер. Он осмотрел все достопримечательности, от собора Св. Павла до Тауэра, где его поразило собрание «67 тыс. ружей и огромного числа сабель и штыков» — о мощь и сила Британской империи! — «а также дыбы, „пальцедавки“ и другие орудия пыток».
Тетушка Джейн, жена дяди Генри, понравилась ему еще больше, чем тетушка Аннет. Дядя Генри повел его в Кристал-пэлэс [8] дядя Дик — в цирк Хенглера, с приятелем из Стонихерста он ходил в зоопарк, где тюлень целовался со служителем. Восхитительным, рассказывал он матушке, был поход в Музей восковых фигур мадам Тюссо. «Я был очарован комнатой ужасов и муляжами убийц».
Любопытно отметить, что Музей мадам Тюссо в то время, да и в последующие десять лет, находился на Бейкер-стрит.
В Стонихерсте уже маячил устрашающий призрак выпускных экзаменов, но Артура согревала мысль об исполненной им таинственной миссии. Его вожделенная мечта и цель поездки в Лондон достигнута. И об этом никто, ни единая душа не догадывается. И хотя, конечно, он был преисполнен благодарности тете и дяде за царский прием, но и под страхом смерти он не согласился бы рассказать им об этом. Это могло показаться глупостью или ребячеством, даже матушка не поняла бы его. Но он свершил, что замыслил. Он побывал-таки в Вестминстере и почтил прах Маколея.
Но на душе у него скребли кошки: пока он развлекался в Лондоне, дома его матери приходилось экономить каждый пенс и обходиться без самого насущного. На нее легли заботы о новорожденном братике Иннесе, появившемся на свет в 1873 году. Артур поздравил тогда матушку из деликатности по-французски.
Единственное, что он мог сделать для нее сейчас, в этот последний год в Стонихерсте, — это учиться и учиться, пока голова не распухнет, чтобы выдержать выпускные экзамены. Тот, кто выдерживал выпускные испытания, автоматически допускался к вступительным экзаменам в Лондонский университет. Но стоило провалить хоть один из предметов — и ты лишался всего.
Чем ближе было лето, тем непреодолимей казались испытания. Артур, что называется, «сдрейфил». «Мне кажется, попади я на лондонский экзамен, я бы выдержал его, — писал он, — но здешнее жуткое судилище приводит меня в настоящий ужас». Он опасался, по всей видимости, какой-нибудь макиавеллиевской хитрости преподавателей. В последний год, когда он проявил свои поэтические способности и стал издавать школьный журнал, ему показалось, что отцы-иезуиты были немало удивлены, обнаружив в нем признаки дарования. Он-то был убежден, что его не любят и не уважают.
Однако, сколько можно судить из переписки его матушки с преподавателями, он заблуждался на их счет. Да, они прекрасно видели его свирепое упрямство: стоило ему только помыслить, что его собираются запугать, как он нарочно совершал какой-нибудь проступок, чтобы, претерпев самое суровое наказание, дерзко взглянуть им в глаза. Но учителя все же любили его и отличали его способности. Его даже с особым умыслом поместили в немецкий класс герра Баумгартена со специальной программой обучения.
В ту ненастную весну перед экзаменами, когда редко удавалось выйти на улицу, Артур утешался Маколеем. Раскаты его голоса не услаждали слуха папы, размышлял Артур. И правда, становилось все очевидней, что Маколей (при безупречной почтительности) не очень-то жаловал папу. Артура — доброго католика — это не могло не смущать.
Веру и обязанности верующего он всегда принимал беспрекословно. Это была вера его предков, и задумываться или тем более сомневаться в ней было так же нелепо, как ставить под сомнение некую сакральную таблицу умножения. Надо всем возвышались красота и величие веры, составлявшие частицу его жизни. Лишь однажды был он обескуражен громогласным заявлением ирландского священника, что всякому некатолику предстоит гореть в аду.
Пророчество потрясло его. Никогда прежде не задумывавшийся над этим, он решил, что тут явная ошибка. Но никакой ошибки, по крайней мере для отцов-иезуитов, не было. И его одолевали видения корчащихся в аду ученых, солдат, государственных деятелей — всех тех, о ком доводилось ему читать. И каким утешением для него и вместе с тем новой причиной для сомнений было узнать, что его непреклонная, романтически настроенная мать на удивление легко относилась к подобному витийству.
«Носи фланелевое исподнее, мой мальчик, — говорила она, — и не думай о вечных муках».
Между тем вселявшая ужас экзаменационная сессия началась и прошла для него успешно. И тогда вместе с тринадцатью своими соучениками явился он, дрожа от усердия, на лондонский экзамен. Конверт с результатами прибыл из Лондона ярким июльским днем и был препровожден в кабинет ректора. Четверть часа мальчишки в ожидании сообщений, грызя ногти, соблюдали тишину. Но больше терпеть они не могли. Вот как описывал происходящее Артур:
«Распахнув двери рекреационной залы, глухие к окрикам старших, мы устремились на галерею, вверх по лестнице и оттуда по коридору к кабинету ректора. Нас было человек 40–50, не только сами испытуемые, но и многие из тех, у кого отличились братья или родственники. Мы столпились у дверей, толкаясь и галдя. Дверь отворилась, и мы увидели ректора, размахивающего над головой конвертом».
Всеми овладело ощущение эпичности происходящего; в подобные минуты жизни всякий испытывает нечто сходное, но, как видно, в те времена, в 1875 году, даже классные наставники были много эмоциональней.
























