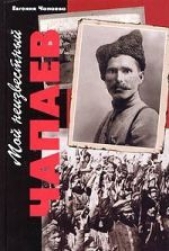В театре и кино

В театре и кино читать книгу онлайн
Книга 'В театре и кино' похожа на исповедь: она по-хорошему искренна, по-человечески откровенна. Бабочкин не пишет мемуаров, которые теперь стали модным жанром. Он не собирается создавать трактат об искусстве актера. Бабочкин, прожив огромную, крайне богатую, насыщенную жизнь в советском искусстве, хочет поделиться мыслями о том, что и как было. Как возникал 'Чапаев' и как он создавался. И здесь он спорит с критиками, киноведами, защищает свою эстетическую программу. Факты истории он приводит не потому, чтобы еще раз подчеркнуть свою к ним причастность. Он хочет извлечь из фактов разумный смысл, полезность для сегодняшнего этапа развития искусства. Поэтому так интересно читать все, что пишет Бабочкин о 'Чапаеве', о И. Н. Певцове, о системе К. С. Станиславского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Если бы сейчас появился истинный гений театра, равный по силе и энергии великому разрушителю штампов Станиславскому, то всю свою взрывчатую силу он должен был бы направить на то, чтобы разрушить, дискредитировать, высмеять и уничтожить актерские штампы последних двадцати лет, те же самые штампы, с которыми боролся Станиславский. Ведь и сейчас у нас "вульгарный актерский апломб смешивается с уверенностью истинного таланта, слащавость принимается за лиризм, пафос - за трагизм...". Я повторяю еще раз целиком цитату из Станиславского.
Прикрытые внешними техническими приемами актерской простоты, подпертые терминологией системы Станиславского, культивируемые малоодаренными апологетами этой системы, все эти штампы проникают на нашу сцену. Наше поле заросло сорняками, и надо его полоть. Не знаю, как это случилось, когда начался этот длительный, постепенный и незаметный процесс, в результате которого советскую сцену завоевала посредственность, важная, со значительно-печальным выражением лица, солидная и пристойная посредственность. Она давила на талантливое и душила его, и талантливое отступало, перерождалось и само становилось посредственностью. В сочетании с делячеством и ловкостью она заполняла все поры театра.
Сейчас театр уже вступил, кажется, в новый период своего развития, но процесс оздоровления атмосферы - процесс длительный, противоречивый, и, пожалуй, не так уж легко разобраться во всем, что сейчас в театре происходит и что из этого происходящего хорошо, а что плохо.
Главными врагами истинного театра сейчас, как и во времена Станиславского, остаются штамп, ремесло, сентиментальность, ходульность, декламация, ложная патетика. Все эти атрибуты я еще встречал, особенно во времена работы в провинциальных театрах, так сказать, в чистом виде. Я знал актеров, которые просто гордились своей некультурностью, ничего зазорного не видели в том, что уже на первой репетиции знали, как нужно играть свои роли (все без исключения). Их творческие поиски ограничивались всего несколькими минутами, которые уходили на то, что к роли примерялся один, или второй, или, в лучшем случае, третий "тон", имевшийся в распоряжении этого актера. И дальше уже шло как по маслу...
Я еще помню актеров, которые совершенно не знали ролей, а знали только амплуа роли да некоторые наиболее характерные для этой роли выражения, например: "Святая мадонна!" - в роли Генриха Наваррского, или "О, горе!" - в трагедии Словацкого "Балладина", или "Карамба!" - в пьесе Гр. Ге "Казнь". Вот эти слова и подавались со сцены очень часто, очень уверенно и очень громко, а остальное было как бог на душу положит. Но в этом старом штампованном, провинциальном театре, который так хорошо и с такой горькой ненавистью описан Куприным в его рассказе "Как я был актером", я встречал людей живых, талантливых, интеллигентных и интересных. Его ужасающая атмосфера, как это ни странно, была легкой для творчества.
Я считаю своей лучшей школой вот этот самый старый провинциальный театр, которому я отдал семь лет своей жизни. В этом театре я играл так легко, так беззаботно, играл, как птица поет. Гораздо более противопоказанным настоящему искусству является театр, где долго репетируют, долго обсуждают, много спорят, но где всем этим прикрывается точно такое же ремесло, точно такие же штампы, которые в старом провинциальном театре разгуливали по сцене во всем своем наивном бесстыдстве.
В старом провинциальном спектакле, на фоне ужасающей и неприкрытой ремесленной халтуры нет-нет, да и вспыхнет настоящий талант, вспыхнет и невзначай потащит за собой остальных участников спектакля - ведь весь этот спектакль был в общем-то импровизацией. Настоящих талантов на старой провинциальной сцене было немало. Немало их, очевидно, и сейчас, но сейчас "сделанный", слаженный, долго и неверно срепетированный спектакль исключает возможность такой импровизации. Пожалуй, сымпровизирует в таком сделанном и слаженном спектакле молодой актер, так, чего доброго, и выговор в приказе заработает за "нарушение замысла режиссера и художественной ткани спектакля".
Я говорю о старом провинциальном театре, имея в виду театр советского времени. В двадцатых годах он оставался старым провинциальным театром в полном смысле слова. Первые советские пьесы "Виринея" Сейфуллиной и "Федька-есаул" Ромашова, "Яд" Луначарского появились в 1925-1926 годах и шли на фоне старого репертуара, состоявшего из таких пьес, как "Трильби", "Казнь", "Две сиротки", "Воровка детей", "Парижские нищие", "Блудливый директор", "Контролер спальных вагонов", и таких новинок, как "Проститутка", "Аборт" и так далее.
Литературное содержание театра изменилось за последние тридцать лет совершенно. Но этого нельзя сказать о принципах мастерства. Они во многом остались и сейчас прежними. И не только в мелких периферийных театрах, а иногда и в довольно крупных столичных. Правда, сейчас все это приглажено, причесано, но суть дела остается часто прежней.
Когда я смотрю "Грозу" в театре Охлопкова, то вижу тот же старый провинциальный театр двадцатых годов, слышу те же жалобные интонации, ту же декламацию, узнаю даже походку актеров. Но в то же время я вспоминаю "Грозу", скажем, в Саратовском городском театре и вижу, что секрет обаяния сцены в овраге утерян теперешними актерами навсегда, Кудряш и Варвара стали персонажами хора имени Пятницкого, они пришли в театр с эстрады, а не из жизни. Неуловимый поэтический аромат сцены исчез, а набор внешних приемов остался неприкосновенным.
Я помню, как первый раз увидел на сцене Орленева. Это было поздней осенью в театре "Эрмитаж". Летний сезон кончился, зимний еще не начался. Было холодно, шел дождь. Знаменитый гастролер не сделал большого сбора. Труппа у него была ужасающая, да и пьеса, которая шла в этот вечер, не была достаточно интересной. Шло "Горе-злосчастье" -бытовая драма с хорошей ролью молодого несчастного чиновника, которого преследует судьба. Его играл Орленев.
Первое впечатление от него было ужасным. На сцену вышел старый человек с очень помятым и очень напудренным лицом. У него был тихий, надтреснутый, правда, очень задушевный голос. Он говорил очень тихо, но все было слышно и понятно. Не больше. Так прошли первый, второй и половина третьего акта. В публике было, очевидно, много старых поклонников Орленева. В антрактах они ходили, опустив глаза, как бы извиняясь за своего кумира. Но вдруг в конце третьего акта на сцене произошло чудо. Загнанный в угол, в тупик, замученный, Орленев вдруг распрямился, вырос, помолодел, зажегся, стал великолепным, ослепительным, как молния. Публика была захвачена, смятена, потрясена неожиданным, неподготовленным, волшебным превращением. Свершилось чудо театра, то, из-за чего стоит жить. В это мгновение было забыто все - плохие декорации, полупустой зал, слабая труппа, слабая пьеса, - на сцене возник великий актер, и это было такое счастье видеть его хотя бы в течение нескольких минут...
Еще ничего не зная, еще ничего не видя, я уже был убежденным, даже предубежденным на всю жизнь
сторонником реализма.

Б. Бабочкин. 1929 г
Я держал экзамен в студию М. Чехова. Все, иль созданное, было отмечено гениальностью. Он учил играть ролью, то есть овладеть ею так, чтоб она стала удобной, как привычные туфли. Все неожиданности он старался использовать так, чтобы они помогали ему действовать экспромтом. Он подмечал в людях неуловимые черточки характера, скрытые нелепости душевных движений и помыслов.

М. А. Чехов. Двадцатые годы