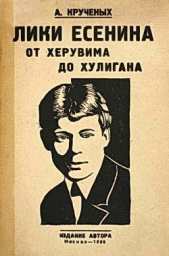О других и о себе

О других и о себе читать книгу онлайн
Автобиографическая проза Бориса Абрамовича Слуцкого (1919–1986), одного из самых глубоких и своеобразных поэтов военного поколения, известна гораздо меньше, чем его стихи, хотя и не менее блистательна. Дело в том, что писалась она для себя (или для потомков) без надежды быть опубликованной при жизни по цензурным соображениям.
"Гипс на ране — вот поэтика Слуцкого, — сказал Давид Самойлов. — Слуцкий выговаривает в прозу то, что невозможно уложить в стиховые размеры, заковать в ямбы". Его "Записки о войне" (а поэт прошел ее всю — "от звонка до звонка") — проза умного, глубокого и в высшей степени честного перед самим собой человека, в ней трагедия войны показана без приукрашивания, без сглаживания острых углов. В разделе "О других и о себе" представлены воспоминания Слуцкого о своих товарищах по литературному цеху — Н. Асееве, А. Ахматовой, И. Эренбурге, Н. Заболоцком, А. Твардовском, И. Сельвинском, С. Наровчатове, М. Кульчицком, а также история создания некоторых наиболее известных его стихотворений. Раздел "Из письменного стола" включает в себя фрагментарные мемуарные записи, отличающиеся таким же блеском и лаконизмом, как и вся проза Слуцкого. Большинство материалов, включенных в книгу, публикуется впервые
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Через месяц, над Суворовой Могилой, я впервые поел винограда. Немцы интенсивно обрабатывали наше расположение, и тянущая оскомина во рту странно ассоциировалась со свистом мин, буравивших желтый песок.
По пути от Харькова к Днепру немцы разгромили все бахчи, прострелили или проткнули штыками каждую дыню, тыкву, арбуз, оставив их догнивать. Однако огурцов и помидоров было слишком много, и у нас было на чем отыграться.
Помню еще вздутые трупы волов на околицах бессарабских деревень — немцы собирали и расстреливали их перед отступлением.
В Болгарии и Югославии кулинарная мысль, усердие интендантов дошли до ввоза из России икры, настоящей московской водки — конечно, для генеральских столов.
На праздничных офицерских обедах, где‑нибудь в Венгрии, подавалось по восемь мясных блюд, шесть видов борщей и т. д. Начальство в военторгах переставало считаться презираемой профессией.
В то же время в Вене за пять буханок хлеба можно было купить золотые дамские часы.
Штабной врач Клейнер жаловался мне, что тыловики, идя по линии наименьшего сопротивления, перегружают рационы огромными порциями мяса и вина, угрожающе перерождающими ткани.
На больших перегонах за дивизиями шли большие тысячные гурты скота. Другие тысячи трясли хвостами в обратном направлении — их гнали в украинские и смоленские колхозы. От этих европейцев пойдут, наверное, неожиданные поколения рыжих коров и грузных битюгов с короткими хвостами. Повозочные не уважали этих «мадьяров» и безжалостно лупили по хребтам.
В полуброшенной швабами Воеводине бродили дичающие гурты свиней, уток, индюков.
Основательно объев заграничное животноводство (в Венгрии и Австрии в 1945 году пришлось законодательно запрещать убой скота), мы подкормили солдата, избавились от дистрофиков и наели мяса, которого с избытком хватит на многие месяцы восстановительного периода.
В переулке, на солнышке, солдаты играют в карты, на деньги. Проходящий офицер делает им замечание. В ответ ему ленивое: «Пеньги не деньги». «Пеньги» действительно не считались деньгами. Солдату было почти невозможно купить на них что‑нибудь — военторги не достигали передовой. Солдат не покупал, а брал: брал много, больше, чем это выходило по расчету на «пеньги».
Впервые наши столкнулись с инвалютой во время Ясской операции. В разбитых казначейских ящиках шуршали миллионы лей, сотни тысяч марок. У каждого пленного фрица была припрятана заветная сотня марок, с которой он расстался бы куда охотнее, чем, скажем, с очками.
Но было отчетливое сознание, что вместе с Гитлером и Антонеску канут в бездну марки и леи. Шли не смирять, не завоевывать — сметать. Кроме того, реального представления о ценности инвалюты не было. За окопные годы все позабыли о лавках с витринами, где можно купить, получить сдачу. На сберкнижках мертвым грузом лежали десятки тысяч рублей. Их легко отдавали — на танковую колонну, на сирот, взаймы тыловым друзьям. Даже старшие офицеры не знали, что такое лея. 28 августа, когда наша бригада подъезжала к госгранице — Дунаю, Недоклепа остановил машину и свистом подозвал копавшихся в поле крестьян. Он был самый опытный из нас: служил в Бессарабии в 1940 году.
Крестьянам было объяснено, что ходить будут не леи, а рубли. Посоветовано — обменять леи по курсу 100:1 (до сих пор не знаю, откуда взялась эта пропорция).
Бессарабцы сдались и выдали нам пачку купюр, вызывавших подозрение своей новизной и большими цифрами. В первой же пограничной лавчонке, соблазнившийся капитализмом, я сдуру купил за леи три больших куска туалетного мыла. Разведчики, которые носили по одиннадцать часов на левой руке — от плеча до заплечья — и тикали ими на ходу на одиннадцать разных голосов, затосковали, узнав, что презренные ими леи имеют реальную покупательную способность. Уже с Констанцы начался отъем лей у гражданского населения.
На командном пункте 60–го полка многие месяцы жили две девчонки лет двадцати — двадцати двух. Они чистили картошку для офицерских столовых, носили сальные ватные брюки, жили в сырых землянках, спали со всем персоналом штаба по очереди. Относились к ним с добродушным презрением. Звали одну Петькой, другую — Гришкой. У них была кошачья привязанность к привычному месту, своеобразный патриотизм полкового масштаба.
Думаю, что у них не было бордельной, машинальной развратности. Простительная гулящесть горожанок с фабричной окраины богато дополнялась нежностью, товариществом и забитой, жалконькой женственностью.
Дурацкая ассоциация соединяет этих девушек с Фюрнбергом, секретарем ЦК КП Австрии, чистым человеком, перед которым я и по сей час готов ломать шапку.
Аскет, чистый человек, он был настоящим примером политического, партийного деятеля, как какой‑нибудь майор Вишневский, парторг 55–го полка, имевший «душу» и «подход», был положительным образчиком политического работника.
В сорок лет у него был молодой пыл неофита. Один из крупнейших функционеров Европы, он организовывал авст — рийские партизанские батальоны в Словении, курьерствовал между Тито и Москвой, недоедал, ходил в английской униформе, полученной у партизан, договаривался с югославами о спорных территориях и демаркационных линиях, достойно, чуть насмешливо спрашивал меня, примут ли его мои начальники. Стыдился и гордился своим еврейством. В Праге у него была девушка, о которой он ничего не слышал в течение всей войны. Он тосковал невозможностью урвать у партии два дня, съездить в Прагу, посмотреть, узнать
Румыния
Обратное влияние
Все сводки времен заграничного похода тщательно учитывают обратное влияние Европы на русского солдата. Очень важно знать, с чем вернутся на родину «наши» — с афинской гордостью за свою землю или же с декабризмом навыворот, с эмпирическим, а то и политическим западничеством?
Немцы методами пропаганды ставили вопрос: зачем воевать на чужой земле? А еще больше привлекали внимание к мнимым и фактическим преимуществам европейской жизни. Специальная листовка была посвящена противопоставлению венгерской деревни колхозному строю. Был ряд фактов дезертирства наших солдат, особенно из бывших пленных. Дезертиры пытались осесть с новыми женами.
Однако наиболее важное в отношении русского солдата к загранице выразил шофер Довгалев, с удивлением спрашивавший меня в Констанце: неужели этот завод частный?
Наиболее веским оказалось сознание несправедливости европейского социального уклада, гордое противопоставление ему. Где‑то в Австрии жители недоумевали по поводу рассказов нашего солдата, бывшего сапожника, наговорившего России три короба комплиментов. Конечно, тысячи и тысячи солдат преувеличивали положительные стороны нашей жизни перед иностранцами, оправдывая себе эту ложь именно справедливостью жизни в России.
Европейские парикмахерские, где мылят пальцами и не моют кисточки, отсутствие бани, умывание из таза, «где сначала грязь с рук остается, а потом лицо моют», перины вместо одеял — из отвращения, вызываемого бытом, делались немедленные обобщения.
В сводке сообщали нам, что румынские буржуа рассчитывают на «капитализацию» идеологии красноармейца и на то, что, вернувшись, они введут у себя капиталистические порядки. Однако именно в Румынии наш солдат более всего ощущал свою возвышенность над Европой.
В Констанце мы впервые встретились с борделями.
Командир трофейной роты Говоров закупил один из таких домов на сутки. Тогда еще рубль был очень дорог, существовал «стихийно найденный» паритет: «один рубль равняется ста леям», — вполне символизировавший финансовую политику нашего солдата. Характерно, что курс завышался также и в Болгарии, а в Югославии он, наоборот, был занижен до того, что за один рубль там брали 9,6 недичевских динаров и солдаты переплачивали «из уважения».
Закупив бордель, Говоров поставил хозяина на дверях — отгонять посетителей, а сам устроил смотр нагим проституткам. Их было, кажется, двадцать четыре. «За свои деньги» он заставил их маршировать, делать гимнастические упражнения и т. д. Насытившись, Говоров привел в дом свою роту и предоставил женщин сотне пожилых, семейных, измучившихся без бабы солдат.