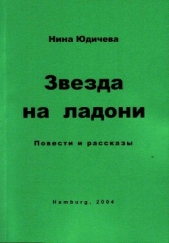Случай Эренбурга

Случай Эренбурга читать книгу онлайн
Илья Эренбург, одна из самых противоречивых фигур в советской литературе и общественной жизни, предстает в этой книге не только прекрасным прозаиком, тонким поэтом и блистательным публицистом, но прежде всего человеком, переживающим драму, поставившим свой талант на службу сталинскому режиму и делающим многое этому режиму вопреки. Размышления автора о жизни и творчестве Эренбурга перемежаются воспоминаниями о встречах и доверительных беседах с ним.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И не только воспевал, но и, размахивая этим «ремянным батожком», нещадно лупил им (вместе с Сергеем Васильевым, автором знаменитой поэмы «Без кого на Руси жить хорошо») «безродных космополитов». А Павел Григорьевич Антокольский, выступающий у Дымшица в паре с автором той юдофобской поэмы, как раз и был тогда вот этим самым «безродным космополитом» и получал вот этим самым «ремянным батожком» — и «по сусалам, и по глазам», и по прочим чувствительным местам
В том Дымшицевом списке не было, конечно, ни Ахматовой, ни Пастернака, ни даже на десять лет выброшенного из советской поэзии Мартынова (после статьи Веры Инбер «Нам с вами не по пути, Леонид Мартынов!»). Но кое-какие громкие имена там все-таки были, и читателя, не вникшего в существо спора, список этот мог, пожалуй, и обмануть.
Но читателю, более или менее ясно представлявшему, какая реальность стояла за каждым таким именем, запудрить мозги было все-таки трудно.
Вот, например, Тихонов, первыми своими стихотворными сборниками («Орда» и «Брага») сразу поставивший себя в ряд с самыми знаменитыми тогдашними русскими поэтами (помните у Багрицкого: «А в походной сумке — спички и табак, Тихонов, Сельвинский, Пастернак»), в 40-х и 50-х превратился в безликого, жалкого и убогого графомана.
В то самое время, о котором я сейчас вспоминаю, был у меня разговор на эту тему с Николаем Николаевичем Асеевым
Я выразил изумление по поводу того, что Тихонов, начинавший так талантливо и ярко, начисто утратил не только какие-либо признаки поэтического дара, но даже и остатки простого умения более или менее грамотно укладывать слова в стихотворные строки.
Причина этой катастрофы была мне более или менее ясна. Но Николай Николаевич пролил на эту загадку дополнительный свет, рассказав мне такую историю.
Сидели как-то они с Тихоновым в ложе во время какого-то торжественного собрания. Возможно даже, это было на первом писательском съезде. Сидели и разговаривали о чем-то, как казалось Асееву, одинаково важном и интересном для обоих.
— И вот я замечаю, — рассказывает Николай Николаевич, — что он меня не слушает. Покраснел весь, напрягся…
Оказалось, что с трибуны зачитывали список лиц, предлагавшихся в президиум высокого собрания. И Тихонова в этот момент больше всего на свете интересовало, будет или не будет сейчас упомянута и его фамилия. Ясное дело, что тут уж ему было не до Асеева и не до какого-то отвлеченного их разговора о каких-то там высоких материях.
Рассказав эту историю, Николай Николаевич махнул рукой и — заключил:
— Тут я понял: говно!
А о себе Николай Николаевич рассказал мне однажды, как орал на него и топал ногами Щербаков, распекая за «политически вредное» стихотворение «Надежда».
Стихотворение было такое:
Стихотворение это, рассказывал Николай Николаевич, написалось у него в 41-м под впечатлением жуткой картины, которой он сам был свидетелем. После разгрома немцев под Москвой он с Фадеевым отправился в прифронтовую зону, в места, только что освобожденные от врага. И там, в одной из освобожденных деревень, он увидал местных деревенских ребятишек, которые лихо скатывались с обрыва на обледеневших немецких трупах — как на салазках.
Макабрическое зрелище это привело старого поэта (впрочем, он был тогда не таким уж и старым) в ужас, и своими мыслями по этому поводу он поделился с Фадеевым. Фадеев на него наорал, обозвал абстрактным гуманистом и жалким интеллигентиком, не способным разделить чувство священной ненависти к врагу, которым охвачен весь советский народ, включая малых детей. В ответ на эту фадеевскую отповедь Асеев и написал тот стишок, прочитав который его вызвал «на ковер» всесильный секретарь ЦК ВКП(б).
Щербаков школил его, как классный наставник проштрафившегося гимназиста. А ведь Асеев был классик, лауреат самой первой, только что учрежденной незадолго до войны Сталинской премии.
Да что Асеев (классик там или не классик, а все-таки — чужой), если даже своему в доску Алексею Суркову влепили большого партийного дрозда за его недостаточно оптимистичную «Землянку». Ну, а Заболоцкий, Смеляков и Ольга Берггольц — так они в те незабвенные времена, когда «читатели накрепко полюбили поэзию Н. Грибачева», и вовсе пребывали в местах отдаленных.
Все это (и еще многое другое) А.Л. Дымшиц знал, конечно, не хуже меня. Но, как любил говорить в таких случаях мой друг Иосиф Самойлович Шкловский, — поганому виду немае стыду.
Нет, пожалуй, я все-таки не зря не подал тогда ему руки. И не зря решил, что той своей статьей он побил все тогдашние — даже свои собственные — рекорды подлости и наглой, беззастенчивой лжи.
Тут, кстати, надо сказать, что так думал тогда не я один.
Помню Булата, выступавшего в тот день на летучке. Брезгливо держа в руках газетный лист со статьей Дымшица («как юный князь изящен»), он говорил:
— Вынув сегодня из почтового ящика газету и заглянув в нее, я сперва решил, что это какое-то недоразумение. Что вместо нашей газеты, мне по ошибке сунули «Лижи»…
И все — даже не слишком близкие — мои литературные знакомые (и даже полузнакомые), с кем мне тогда доводилось встречаться, сразу заговаривали со мной об этой Дымшицевой статье, спешили выразить свое сочувствие и солидарность и — в один голос — повторяли:
— Не понимаю, что случилось с Дымшицем! Я помню его по Германии. Он так замечательно вел себя там в тогдашней своей должности!
Сразу после капитуляции Германии майор Дымшиц был назначен ответственным за немецкую культуру. В составе советских оккупационных войск он был чем-то вроде министра. Он организовывал какие-то пайки голодавшим немецким писателям, актерам, художникам. Роль его в послевоенной Германии была огромной. Сам он, смеясь, говорил, что был тогда в должности Геббельса. (Он, конечно, говорил — анти-Геббельса.) О майоре Дымшице, который стал тогда их спасителем, много лет спустя с придыханием вспоминали Эрнст Буш и Елена Вайгель — блистательная актриса, вдова Брехта.
Такова была легенда, сомневаться в истинности которой у меня не было никаких оснований. И поэтому, когда все, кто заговаривал со мной на эту тему, в один голос повторяли: «Не понимаю, что стало с Дымшицем!» — я только кивал и разводил руками.
Помню, и Константин Михайлович Симонов, к которому я приезжал тогда по каким-то литгазетским делам, тоже произнес эту сакраментальную фразу: «Не понимаю, что стало с Дымшицем! Он так хорошо вел себя в Германии!»