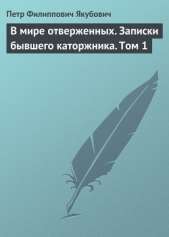Записки пожилого человека

Записки пожилого человека читать книгу онлайн
Лазарь Лазарев — литературный критик «новомирского» ряда, один из старейшин современного литературоведения и журналистики, главный редактор пользующегося неизменным авторитетом в литературном и научном мире журнала «Вопросы литературы», в котором он работает четыре с лишним десятилетия. Книга «Записки пожилого человека» вобрала в себя опыт автора, долгое время находившегося в гуще примечательных событий общественной и литературной жизни. Его наблюдения проницательны, свидетельства точны.
Имена героев очерков широко известны: В. Некрасов, К. Симонов, А. Аграновский, Б. Слуцкий, Б. Окуджава, И. Эренбург, В. Гроссман, А. Твардовский, М. Галлай, А. Адамович, В. Быков, Д. Ортенберг, А. Тарковский.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда он переехал в Москву (отсюда он тоже постоянно срывался в командировочные путешествия), как ни странно, стали видеться реже, если не считать незапланированных встреч на каких-то мероприятиях в ЦДЛ или Доме кино, на заседаниях и митингах (на один из митингов он явился из Переделкина с недавно заведенной обожаемой им собакой — не на кого было оставить, а митинг не считал возможным пропустить). Перешли на основной вид московского общения — по телефону. И весь этот год после его смерти рука непроизвольно тянется к телефону — поговорить, как бывало, по делу, а чаще без дела, обсудить наши так часто не слишком радостные новости, поделиться прочитанным…
Попалась мне на днях на глаза заметка о том, что полковник Тиббетс, командир «Энолы Гей», сбросившей атомную бомбу на Хиросиму, и нынче, в очень уже преклонном возрасте, когда пора о боге и своих грехах думать, никаких укоров совести не чувствует: чего там, сделал то, что приказано было, и как надо сделал. И сразу пришел на ум добросовестный палач Тупига из «Карателей» Адамовича. Первая мысль, нет, не мысль даже, какое-то мгновенное душевное движение: Саше бы рассказать об этом…
Недавно опубликовали хранившийся за семью печатями доклад начальника Управления предприятиями коммунального обслуживания Ленинграда на бюро горкома, сделанный в начале осени 1942 года. Там сказано: «По неполным данным кладбищ, за период с 1 июля 1941 г. по 1 июля 1942 г. в городе захоронено 1 миллион 93 тысячи 625 покойников». Только за один год и по неполным данным! А в энциклопедии «Великая Отечественная война. 1941–1945» утверждается, что за 900 дней блокады погибла 641 тысяча жителей. Сколько раз мы с Сашей говорили о том, что наши военные потери, в том числе в блокадном Ленинграде, бесстыдно преуменьшаются. Как важно было бы ему прочитать этот секретный доклад, который скрывали больше полувека. Но, увы, не узнает он о нем…
Улыбка — иногда ироническая, а гораздо чаще застенчивая, девичий румянец на щеках, вежливость и деликатность — на тех, кто впервые с ним сталкивался, Адамович производил впечатление человека мягкого, покладистого. Таким он и был. Но я не знал человека более твердого и неуступчивого в принципиальных вопросах. И более бесстрашного. Мне кажется, бесстрашие вообще было главным свойством его личности. Наверное, истоком бесстрашия была партизанская юность — и шестнадцати не исполнилось, когда ушел в партизанский отряд. Но это тот очень редкий случай (разве не встречались каждому из нас и вовсе не в порядке исключения люди, не праздновавшие труса на фронте, а в мирной жизни смертельно боявшиеся директора, партбюро, кадровиков, приходившие в ужас от свободной мысли, свободного слова), когда человеку — таким и был Адамович — было дано самого разного вида бесстрашие.
Прежде всего бесстрашие мысли. Одну из своих публицистических книг Адамович назвал «Додумывать до конца» (хочу обратить внимание на заголовки его литературно-критических и эссеистских книг: «Ничего важнее», «Выбери — жизнь», «Отвоевались!» — проблема каждый раз ставится ребром). Его все больше занимали «последние вопросы», он стремился додумывать все до конца, это было ему дано, это он умел (и других толкал к этому — вот как надписал мне свою книгу: «Давайте и дальше додумывать вместе»). И никакие идеологические табу, ставшие от многолетнего употребления привычными, как правила хорошего тона, пропитавшие многие наши представления, не принимались им в расчет, не могли его остановить. Он переступал через них, отбрасывал их. Адамович не выносил ни хуторской замкнутости, ни национального чванства и высокомерия, ни имперско-державного ура-патриотизма — даже в микродозах, даже прикрытых густым туманом философско-литературоведческой изящной словесности. Тут же обнаруживал и был беспощаден. Когда московские лидеры «истинно русской» литературоведческой «школы» отправились для наведения мостов в Минск, пели там соловьями, Адамович от их построений камня на камне не оставил. «Надолго они забудут дорогу в наш город», — рассказывал он мне, смеясь.
Более последовательного, открытого и яростного противника войны и милитаризма, чем он, кажется, в нашем кругу не было. За это ему немало доставалось. Но ни «черная метка» пацифизма, отправленная ему идеологическим начальством, ни злобные нападки практикующих генералов не могли Адамовича укротить. Он выступал против кровопролития и жестокости, в какой бы красочно-романтической упаковке они ни подавались, сумел восстановить против себя начальство сразу двух ведомств — военного и пропагандистского. Шутка сказать, предложил военно-патриотическое воспитание заменить антивоенно-патриотическим, предостерегал: в наши дни любая, самая малая, война — шаг к атомному концу света. Как-то Саша рассказал мне о своем разговоре с командиром подводной лодки об атомной войне (не знаю, где они встретились, но вряд ли встреча была случайной; людьми, занимавшимися атомными делами — не только военными, но и учеными-ядерщиками, — он очень интересовался: чем они дышат, что можно ждать от них).
— Разговор шел вокруг да около — кругами. Тогда я прямо в лоб спросил у подводника: нанесен атомный удар, полмира накрыл ядерный смерч, нажали бы вы в ответ кнопку? Офицер вернул мне вопрос: а вы? «Я — нет, — ответил я ему. — А иначе губители человечества добили бы его моими руками».
— А что он вам на это сказал? — спросил я.
— Ничего. Уклонился.
— Ответа у него не было, не могло быть. Никто никогда не ставил перед ним такого вопроса. Его годами воспитывали, специально обрабатывали, чтобы у него даже мысли такой не возникало.
— Я хочу об этом написать. Чтобы начали задумываться. Что-то для себя решать, — сказал Саша.
— А вы представляете, что с вами будут делать наши генералы и адмиралы?
— Не съедят, подавятся. Лишь бы удалось напечатать.
Статью Адамович написал и напечатал. Что тут началось, многие из сегодняшних читателей даже представить себе не могут — дело ведь было в 1987 году, хотя и нынче такое не очень-то сходит с рук. Накинулась вся стая «ястребов» — от сочинителей военно-патриотических «бестселлеров» до министра обороны Язова. Подумать только, к чему призывает этот распоясавшийся пацифист: не отвечать, как положено, тройным ядерным ударом на удар, а уберечь от возмездия, пощадить каких-то там капиталистов! Надо заткнуть ему рот, чтобы не сеял сумятицу в головах наших воинов. А Адамович не унимался, запугать его не удалось, через год он преподнес им новую пилюлю: «Стыдно иметь атомную бомбу! Каждая — это Освенцим, любая — Гиммлер, Гитлер, как же примирить с этим совесть цивилизованным людям». И опять с лютой злобой клевали Адамовича «ястребы»: как это стыдиться, чего стыдиться, гордиться надо тем, что мы создали такой запас атомных и водородных бомб, что можем, если понадобится, трижды уничтожить все живое на земном шаре! Но ничто не могло остановить Адамовича в его бесстрашном стремлении додумать до конца, какую угрозу человечеству таит в себе ядерное оружие, донести это до людей. А после Чернобыля (впрочем, одно связано с другим) он стал выяснять, что в организации атомной промышленности и атомной безопасности, а точнее в нашем общественном устройстве, грозит глобальной экологической катастрофой, толкает к ней.
Так же бесстрашно относился Адамович в своем творчестве к правде. Не только к той, которую не зря называют горькой, но и к жестокой, даже ужасной правде. Здесь нужны, однако, некоторые пояснения.
Между художником и правдой стоит не одна лишь цензура (не собираюсь преуменьшать размаха и тщательности ее прополочной деятельности в прошлые годы — работали не покладая рук), но и накапливающиеся, незыблемо утвердившиеся, въевшиеся в читательское (и писательское тоже) сознание литературные штампы.
К правде, отбрасывая, оспаривая, опровергая литературщину, стереотипные представления — прежде всего о партизанской войне, бесстрашно, не считаясь с тем, что вовсе не всем она будет по сердцу, не все ее примут, а иные и в штыки встретят, пробивался Адамович. Не взирая ни на что. Не зря он в последние годы любил повторять отысканную одним из его друзей философом и литературоведом Юрием Корякиным в подготовительных материалах к «Дневнику писателя» замечательную своей вызывающей категоричностью фразу Достоевского — она точно выражала его, Адамовича, отношение к правде как к самой высшей ценности не только в литературе, но и в жизни: «Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа, выше России, выше всего, а потому надо желать одной правды и искать ее, несмотря на все выгоды, которые мы можем потерять из-за нее, и даже несмотря на все преследования и гонения, которые мы можем получить из-за нее». Это стало девизом Адамовича, это можно поставить эпиграфом к его творчеству, к его жизни.