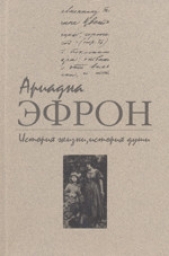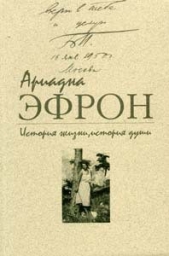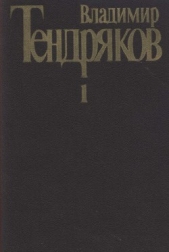История жизни, история души. Том 3

История жизни, история души. Том 3 читать книгу онлайн
Трехтомник наиболее полно представляет эпистолярное и литературное наследие Ариадны Сергеевны Эфрон: письма, воспоминания, прозу, устные рассказы, стихотворения и стихотворные переводы. Издание иллюстрировано фотографиями и авторскими работами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Потом читал стихи из «Сестры моей — жизни»; потом отрывок про море — «Приедается всё — лишь тебе не дано примелькаться...».
У него была поразительная память — от всего сердца память.
Еще мы говорили про Б<ориса> Л<еонидовича> человека, вспоминали его слова, выражения, рассказы и невольно подражали его неподражаемому голосу, как все, хоть однажды слышавшие его; и улыбались, и любовались, и светлели внутренне, и всё это было молением о наше'. - да минует его чаша сия!
Но не миновала.
А Пастернак как-то спросил меня:
— Ты Казакевича знаешь? Он тут ко мне приходил несколько раз, всё пытался как-то помочь, стихи напечатать, всё обнадёживал и так далее. С ним можно говорить! Он всё понимает! О-о-очень, о-о-очень хороший и, несомненно, о-о-очень талантливый человек. И, понимаешь, вдруг решил подарить мне свою книгу. Я никогда ничего не читаю. Слишком время дорого, чтобы читать то, что сейчас пишут. А тут решился — он сам мне так понравился!
— Ну и как?
— Представь себе - заурядно! Не может быть, чтобы не мог иначе. Но у нас ведь если печатают, то писать не дают. А уж коли пишешь, то не печатают...
Казакевича ни о чём своём не надо было просить: то, в чём ты нуждаешься, он знал лучше тебя самого; заботы и хлопоты о чужих делах молча брал на себя. Эти заботы были частью его будней — ничего из ряда вон выходящего. И всё доводил до конца - сам.
Умение просто и буднично помогать людям - редчайший человеческий талант. Все или почти все мы кому-то помогаем и чьей-то помощью пользуемся. Но, помогая, ждём воздаяния - хотя бы в виде благодарности! - но, помогая, улучшаем свой собственный мир, успокаиваем собственную совесть, из чужой радости, облегчения создаем собственные радость и облегчение.
Необычайно добр и отзывчив был Пастернак - однако его доброта была лишь высшей формой эгоцентризма: ему, доброму, легче жилось, работалось, крепче спалось; своей отзывчивостью на чужие беды он обезвреживал свои - уже случившиеся и грядущие; смывал с себя грехи — сущие и вымышленные. Это он сам знал и сам об этом говорил.
Казакевич же помощью своей не свой мир перестраивал и налаживал, а мир того, другого, человека и тем самым переустраивал и улучшал мир вообще. Тяжёлый труд - заботы о чужом насущном - был частью его повседневного бытия, такой же неприметной и необходимой, как хлеб, который он ел.
Пастернак помогал людям как христианин - какой мерой даёшь, такой и тебе отмерится; Казакевич - как коммунист. Пастернаков-ская bienfaisance3 была для него праздником, bienfaisance Казакевича - буднями. Что до меня, то они были безмерно мне дороги оба.
Пастернак спасал мне жизнь в лагерях и ссылках, Казакевич выправлял её, когда я вернулась на поверхность без кессоновой камеры; принимал на себя давления ведомых мне и неведомых атмосфер. И множества безвоздушных пространств, ибо ничто так не давит, как их «невесомость».
Как-то я пришла поблагодарить Казакевича за очередную гору, которую он для меня сдвинул.
- Будет вам, А<риадна> С<ергеевна>, — ответил он и отмахнулся. - В том, что с вами случилось, виноваты мы все. Значит - и я. Так за что же благодарить?
То, что «со мной случилось», он считал общей виной. Пастернак же себя чувствовал виноватым потому, что «с ним не случилось того, что со мной».
Помню один тёмный вечер на квартире у Казакевича — в самый разгар событий вокруг «Литературной Москвы». Тёмный — потому, что горела какая-то одна сонная лампа. Посторонних не было, не было дома и старших девочек. Галя возилась по хозяйству, возникала и исчезала, как тень. В доме стояла хорошо мне знакомая, опальная тишина. Опалы бывают разные, а тишина при них - одна - ждущая: худшей ли беды, монаршей ли милости. Такую тишину боязно нарушить, сглазить. От такой тишины и стены не помогают.
Казакевич был сдержан, взбешён и небрит, курил папиросу за папиросой (Галя набивала их фильтрами — чтобы не так вредно было, и мне подарила две коробочки фильтров).
Сквозь мудрые его слова о судьбе поэта во все времена и у всех народов — (речь шла о маминой книге, уже свёрстанной — как мы радовались этой вёрстке! — но так и не вышедшей из-за рябовского фельетона в «Крокодиле») - раза два прорывалось вполголоса: «ах, сволочи!».
- На фронте было легче и честнее, ей-богу!
- И в лагере тоже. Ничем не манили, ничего не сулили. И отнимать было нечего.
Пока мы, кипя, утешали друг друга, рядом и вокруг нас молча и самозабвенно играла маленькая Оля, с тёмными, прямыми, как у индианки, волосами, в форменном платьице и фартуке. В свою призрачную, плавающую игру она включила и нас, и кресла, в которых мы сидели, нас обтекала и огибала, скользила, ввинчивалась между нами и спинками кресел. Занятый разговором отец машинально, вслепую, ловил её, а она то отводила, то гладила его руку тоненькими пальчиками в лиловых чернилах.
- Как Маргарита <Алигер>? — спросила я.
- Маргарита держится мужественно.
Никитские ворота в час меж волка и собаки7. У светофора поспешно тасуются пешеходы, и в самой их туше мы чуть не разминовыва-емся с Казакевичем, но, обернувшись, доузнаем друг друга и вместе выныриваем на тротуар.
- Откуда, Эммануил Генрихович?
- Я? Только что из Италии, как ни парадоксально!
- О, господи!
И вот мы уже неспешно провожаем - он меня, я - его, совсем не в ту сторону, в которую надо бы, а куда-то в третьем направлении. Конечно, спрашиваю:
- Ну, как?
Он отвечает:
- Хорошо!
Спрашиваю:
- Не мешали ли попутчики?
Говорит:
- Нет; были среди них мне приятные люди, а тот, имярек, который мог бы помешать, оказался слишком мал. Слишком ничтожен по сравнению. Забавно: попадая в другую жизнь, в иные условия, такие чувствуют себя, будто их на свежую воду вывели, — робеют, и даже великодержавная наглость их там — тоже от робости; не той, бытовой, что от вынужденной сиволапости, - не знаешь, какой вилкой есть и т. п., а — внутренней. Ничего не узнают и — страшно. Впрочем, этот Антей показался мне не наглым, а даже каким-то пришибленным...
«Чувство узнавания — удивительная вещь. Не по тому, что видано, читано, не по книгам, картинам, картинкам, кино, - скорее вопреки этому всему узнаёшь. То, что заранее представлял себе, к чему себя готовил, вначале даже мешает, получается нечто вроде двойного зрения, но это смещение скоро проходит».
«Чувство колыбели; не родины, а пра-отечества».
«Принято считать, что там умеют беречь красоту. Мне кажется — это неверно. Там, где красоте ничто не угрожает, кроме течения времени, людям нет нужды её беречь — с ней сосуществуют, как со всем привычным. Поверьте, нигде в мире её не берегут и не отстаивают так отчаянно, голыми руками, как у нас, в России...»
«Писать о поездке? О, нет! Упаси боже от туристической прозы... По тем дорогам, — как и по всем иным! — надо долго ходить пешком и не одни подмётки сносить, прежде чем отваживаться писать “путевые впечатления”».
В течение последней болезни Казакевича я часто бывала у Маргариты — от неё узнавала о его состоянии. А состояние его было одно — мужество.
- Он так внутренне - неизменен, так по-всегдашнему умён, остроумен, даже весел, что, когда с ним говоришь, порой отвлекаешься от той, главной мысли — и теряешь бдительность... — рассказывала она.
Близкие отбивали Казакевича от смерти. Маленькая, хрупкая - в чем душа! — Маргарита превратилась вся в совершеннейшее оружие обороны и нападения, прикрывая собой любую щель, любую брешь, в которую врывался — или просачивался — противник. Круглые сутки не спал телефон. Он живым мускулом, живой жилой связывал обе квартиры и - дальше, Маргаритиным протяжным голоском добивался и добывал - надежду, лекарство, луну с неба.
Луну с неба! Я видела, как она заглядывала в окна. Маргарита рассказывала, что дочка её, когда была маленькая, думала, что сколько окон, столько и лун, и, конечно же, была права... Теперь обе её девочки выросли, у каждой была своя жизнь и своя луна, ничего общего не имевшая с той, что целилась в Маргаритино окно. Телефон звонил, Маргарита спешила к нему, я же, холодея, оглядывалась на луну.