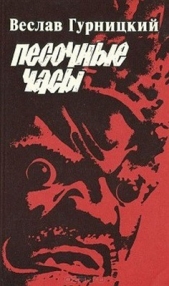Песочные часы

Песочные часы читать книгу онлайн
Автор книги — дочь известного драматурга Владимира Масса, писательница Анна Масс, автор многих книг и журнальных публикаций. В издательстве «Аграф» вышли сборники ее новелл «Вахтанговские дети» и «Писательские дачи».
Новая книга Анны Масс автобиографична. Она о детстве и отрочестве, тесно связанных с Театром имени Вахтангова. О поколении «вахтанговских детей», которые жили рядом, много времени проводили вместе — в школе, во дворе, в арбатских переулках, в пионерском лагере — и сохранили дружбу на всю жизнь.
Написана легким, изящным слогом. Будет интересна самому широкому кругу читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Поговорив так, он извинялся, что его ждут дела, пожимал собеседницам руки и уходил. А они, глядя ему вслед, произносили с убеждением:
— Прекрасный председатель!
Мама сидела на крылечке и читала «Войну и мир». Вернее, перечитывала. Она говорила, что эта книга успокаивает ей нервы, и перечитывала ее каждое лето.
Вернулась с работы Пелагея Петровна, взяла ведра и пошла к колодцу за водой. Мы с мамой сегодня всю воду использовали — мыли головы, а сходить к колодцу как-то даже в голову не пришло.
Пелагея Петровна поставила ведра в сенях и, кряхтя, присела на ступеньку.
— Устали? — вежливо поинтересовалась мама.
— Да мне-то что, я одна. Устала — лягу, отдохну. Вон у Клавки Лизуновой четверо по лавкам, одна крутится. Покрутись-ка без хлеба.
— Почему же без хлеба? — сказала мама, показывая, что она кое-что понимает в колхозных делах. — Вы же не бесплатно работаете. Вам же платят по трудодням.
— Платят, — согласилась Пелагея Петровна. — Хорошо платят. Прошлый год выдали мне на все трудодни полкило овса. Я домой пришла да курям его и высыпала.
— Неважно, значит, работали, — сказала мама.
Пелагея Петровна вздохнула. И вдруг рассказала странную историю. О том, что до революции граф Шереметев со своей женой объезжали окрестные деревни на бричке с откидным верхом, заходили в каждую избу и спрашивали, у кого какая нужда. Графиня всё записывала в тетрадку. А потом по деревням ездила подвода, запряженная парой лошадей, и графский управляющий раздавал крестьянам товары, которые они заказывали. Пелагея Петровна сказала, что когда ей было пятнадцать лет, ей управляющий выдал ситцу на сарафан.
— Заботливый был граф, — сказала Пелагея Петровна.
Я этой истории не поверила. Да и кто поверит? Ведь всем известно, что жизнь крестьян при помещиках была невыносимо тяжелой. «Заботливый граф»! У Пелагеи Петровны от старости уже, наверно, не все дома.
Но маму рассказ хозяйки почему-то заинтересовал, и она, в свою очередь, ей рассказала, что в театре до сорок четвертого года работал Николай Петрович Шереметев.
— Ну как же не помнить, помню Николая Петровича, — сказала хозяйка. — Мальчиком, бывало, сколько раз приезжал с отцом. Ёлки-то в Михайловском посажены кружочком — он посадил.
Вот это меня поразило. То есть я знала, что елки вокруг могилы пони посадил в детстве граф Шереметев, но мне никогда не приходило в голову, что этот маленький граф (в бархатной курточке с белым кружевным воротником, с длинными локонами, похожий на маленького лорда Фаунтлероя, со всеми атрибутами графской жизни — бричкой, управляющим, пони и всем тем, что я привыкла воспринимать как доисторическую эпоху) и есть тот самый Николай Петрович из второго подъезда нашего дома, дядя Коля Шереметев, муж Цецилии Львовны Мансуровой, красивый, веселый, умевший показывать фокусы с шариками у нас во дворе. Возможно ли это?
Я сидела, переваривая эту внезапно приоткрывшуюся мне связь времен.
— Между прочим, — сказала мама. — Что это Марину Федоровну совсем не видно? Где она?
— Да тут недалеко, в Ярцеве, у кумы своей. Зинка-то в дом отдыха пошла прачкой. Там и живет. Ей кладовщица койку в кладовке поставила, пока тепло, можно жить… А Марина все в Подольск ездит, на работу хочет устроиться, на фабрику. Да кто же ее без паспорта возьмет. А Дубцов уперся — не отдает паспорт.
— А от чего у Дубцова жена умерла? — поинтересовалась мама.
— Глаша-то? А от болезни. Долго болела, вся высохла как листик. Дубцов ее не любил. Сильно обижал, особенно спьяну. Он Маринку Головину смолоду любил. А она вышла за Петра Григорьича. Глаша пятерых родила, трое померли. Ваня-то весь, как вылитый, в мать. А Женька — та в отца. Не девка — кремень. А как Глаша померла — Дубцов опять начал к Маринке подваливаться. А она его отшила. Мужа все ждет. А он уж, небось, помер давно.
— Он разве не на фронте погиб?
— Нет, посадили. Десять лет дали.
— За что же?
— А по доносу. До войны-то он у нас председателем был. Как с войны вернулся — народ его снова председателем хотел поставить, заместо Дубцова. Вот Дубцов на него и донес, уж не знаю что. А Петр Григорьевич очень хороший был человек, это все скажут.
— Что вы говорите! Как интересно!
Не так уж занимают меня все эти деревенские дела. Мне хватает собственных переживаний: в доме отдыха живет Сережа Скворцов со своей мамой. В пионерский лагерь он в этом году не ездил по возрасту — ему шестнадцать лет, зато теперь я могу видеть его каждый день.
Он перешел в десятый класс. Собирается поступать во ВГИК на режиссерский. Тяжеловатый подбородок, крупный рот, широкий, слегка вздернутый нос придают его лицу сходство с бульдогом. Но это сходство не делает его некрасивым, скорее, наоборот, придает его лицу сильное, волевое выражение. Серые глаза смотрят уверенно и спокойно. Среднего роста, крепкого, спортивного склада, с широкой, уже по-мужски выпуклой грудной клеткой он выглядит почти взрослым.
Меня он не замечает, но я и не претендую. Мне достаточно видеть его или хотя бы мечтать о том, что я его увижу сегодня или завтра. Наблюдать за ним, когда он играет в волейбол. Перебрасываться незначащими фразами на пляже. Незначащими — для него. Для меня каждое его слово, небрежно обращенное ко мне, полно смысла и значения.
Внешне у нас отношения старых знакомых, связанных кое-какими общими воспоминаниями, общими знакомыми и живущих при этом каждый в своем круге интересов. Так оно и было, но моим кругом интересов был он.
Сразу после завтрака, если погода солнечная, я отправляюсь на омут. Омут — это место, где наша неглубокая и неширокая речка делает крутой поворот, образуя довольно широкую заводь. Берег спускается к воде обрывом, с которого можно нырнуть ласточкой. Вода у берега с головкой, а к середине речка мелеет, и чистое песчаное дно заканчивается на том берегу небольшим, окруженным зеленью пляжиком, на котором очень приятно поваляться.
Но большинство отдыхающих предпочитает этот берег, высокий и травянистый.
Приходила на пляж Женька Дубцова, дочка председателя. Она училась в Москве, в текстильном институте, а к отцу приезжала на каникулы. У нее была очень эффектная внешность: соломенно-желтые перманентные локоны, на каждой реснице по грамму туши, брови выщипаны, и на их месте, на розовых припухших бугорках, нарисованы тонкие бессмысленные полукружья. Крупный нос от обильного припудривания казался еще крупнее.
Когда Женька появлялась на пляже, среди молодых людей начинался шутливый переполох: в притворном обмороке падали в воду, становились на одно колено, целовали ей руку. А она на все эти игривые знаки внимания отвечала: «Не балуй!»
Деревенские бабы в своих длинных серых юбках, в платках, закрывающих лоб и щеки, с загрубелыми руками, босые, ворошили сено на лугу, складывали его в стога. Они существовали как бы в другой плоскости, в своем будничном мире. Мы шли на пляж — они ворошили сено. Мы купались, загорали, вели захватывающие разговоры, между нами возникали, расцветали и рушились взаимоотношения — а они ворошили сено, и казалось, в этом вся их жизнь.
Женька в открытом нарядном сарафане — синие цветы по красному полю — проходила мимо них, высоко подняв голову, а они, прервав работу, опирались на грабли и смотрели ей вслед, приложив ладонь ко лбу козырьком.
На пляже Женька вела себя скромнее. Чувствовалось, что она старается перенимать жесты, слова, интонации «культурного обхождения». Может быть, именно это стремление не быть ни в чем похожей на деревенскую, вызывало у окружающих ироническое отношение к Женьке. Особенно у старших.
Зато когда она поднималась с травы и, покачивая бедрами, медленно направлялась к реке, мне становилось обидно, что я — не Женька.
Она подходила к краю берега и некоторое время стояла, давая всласть полюбоваться своей точеной фигурой. Казалось, сейчас она красиво выгнется, подпрыгнет и врежется в воду ласточкой.
Но здесь и кончалось короткое Женькино могущество. Нырять она не могла — боялась размазать ресницы и испортить прическу. Постояв, она садилась на корточки, опускала в воду одну ногу, потом другую, осторожно погружалась и плыла по-собачьи, высоко задирая голову, чтобы не попали в лицо брызги.