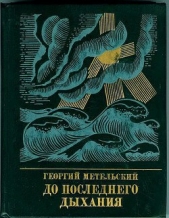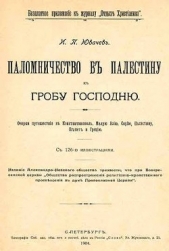Никогда никого не забуду. Повесть об Иване Горбачевском

Никогда никого не забуду. Повесть об Иване Горбачевском читать книгу онлайн
Станислав Рассадин — литературовед и критик, автор ряда книг, в частности биографической повести «Фонвизин», работ, связанных с историей России и русской литературы: «Драматург Пушкин», «Цена гармонии», «Круг зрения», «Спутники» и других.
Новая его повесть посвящена Ивану Ивановичу Горбачевскому — одному из самых радикальных деятелей декабристского Общества соединенных славян, вобравшего в себя беднейшую и наиболее решительную по взглядам частьреволюционно настроенного русского офицерства. За нескончаемые годы сибирской ссылки он стал как бы совестью декабризма, воплощениемего памяти. После окончания каторжного срока и даже после высочайшей амнистии он остался жить в Петровском Заводе — место своей каторги. Отчего? Это одна из загадок его героически-сложной натуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
…Кого приговорили к четвертованию, кого к повешению; провинциальный самовластитель Эссен, в пример и подражание самовластителю державному, приговор смягчил, отмерив своим гарнизонным шесть, восемь, двенадцать лет каторги, но доносчику — надо думать, не без удовольствия — положил первый кнут. Вечную каторгу.
Император, утверждая приговор, явил уже свое, монаршее снисхождение: всем сократил каторжные сроки ровно вдвое, и только Ипполит остался опять-таки при своих. Его это, впрочем, не угомонило, он даже из-под караула исхитрился послать царю навет на Эссена, но Николай не только что не поверил, а, напротив, перевел оренбургского командира в Санкт-Петербург, наградил графством и сделал генерал-губернатором.
Каждая милость — как дуля, злорадно показанная обманщику: ты меня однажды провел и еще хочешь? Так на же! На! На!..
Горбачевский всякий раз посмеивался, когда его мысленному озорному взору представала эта соблазнительная картина, когда-то воображенная и уже не уходившая из головы. Забавно, в самом деле, но так ведь и чудится, что могучий российский самодержец лично и сладострастно схватился с ничтожным, но упрямым доносчиком, взявшимся и его одурачить, — схватился, будто и вправду поверил в его узурпаторские амбиции и возможности: я тебя, сукин ты сын, как никого, упеку, а врага твоего, как никого, обласкаю! Ты у меня узнаешь, как в Наполеоны метить!
Но сам Ипполит — что он? Чем был влеком? Юной глупостью?
— Дурачок! Простофиля!..
Нет, любезный Дмитрий Иринархович, не то! Тогда, выходит, чистое безумие? Мания?
— Да, да! Именно мания! Уверяю вас, он сумасшедший! Он нам такое о себе говорил! Такое!.. Когда нас только еще собирались отправлять из Оренбурга по этапу и стали списывать с нас приметы — ну вы знаете, на случай, если кто замыслит бежать с дороги, — он уверял, что у него на груди родимое пятно в виде царской короны! А по плечам он будто бы мечен изображением скипетра! И еще, и еще поразмысли, Иван Иванович: может, всему виной извращенность натуры, испорченной не природой, а воспитанием? Несомненно, не без того. Когда старший брат уговорил товарищей допустить в их круг младшего, как якобы трепетно нуждающегося в исправлении достойным примером, тот всех поразил отсутствием какого бы то ни была стыда. Не выказывая ни малейшего раскаяния и, как видно, даже не ощушая его, потому что притворства, какое бывает у самолюбивых виновников, тут не было и следа, он беззаботно пел и свистал, проходя мимо прочих узников, — и все сами были принуждены делать вид, что не примечают негодяя.
Он и потом не менялся и меняться не помышлял. В Петровском Заводе за буйство был закован в кандалы и присужден к тяжелым работам, в Верхнеудинске за ябеду — сечен, в Кургане за пьянство и воровство… ну, и далее, далее… даже вспоминать мерзко… Итак, сумасшедший? Весьма вероятно. Урод? Без сомнения. Но любой натуре, самой чудовищной из чудовищных, выпадает свой час, когда даже уродство ее приходится ко времени и ко двору. Ипполит и пришелся как раз ко двору, к царскому, к Николаеву двору, даром что был не приближен, а отвергнут. Доносам его поверили — это главное; поверили хотя бы сперва, да не только сперва; обманутые Ипполитом бедняки так ведь и потащились в Сибирь по канату, будто взаправдашние заговорщики.
Оказался ненужным доносчик. Донос пригодился.
Верили, ибо верилось. Николай не хотел допустить, что раскрытый заговор — вот он тут, весь, а не часть его; так что Ипполит, лгавший доверчивым оренбуржцам, невзначай выкладывал то, о чем царь думал неотступно. Страх перед заговорщиками, затаившимися неведомо где и неведомо до какого сроку, принуждал доверять хоть на первый случай любому шпиону, а шпионство, в свою гнусную очередь, только множило страхи. Сама ярость, с какой Николая покарал доносчика, была яростью человека, который, прознав, что этот заговор ложный, не успокоился, а пуще того насторожился: ежели провели его самого и провели — даром — драгоценное время, значит, отвлекли его взор от того сокровенного места, где непременно зреет неразгаданная опасность. Уж не нарочно ли провели? Не с дальним ли умыслом обманули? А коли так, то — да, надо, надо шпионов, и чем их больше, тем… спокойнее? Нет, покой не приходит, но исхода уже не предвидится, и сыск в домах, в бумагах и в душах надолго, если не навсегда, становится потребностью целой империи, в которой тон задает по обыкновению первый ее дворянин…
— Сказать тебе правду, Мишель, когда я подумываю, в какую же ярость пришел Николай, узнавши, что проведен, что Ипполит все заговоры сочинил, мне тут еще и вот что слышится: «Неумеха! Щенок! Бездельник! За этакое дело взялся, не зная толку! Не берись, коли не разумеешь!»
— Это ты что ж, царев, что ли, голос услышал?
— Его!
— Поздравляю, сподобился! К Иоганне д'Арк, говорят, святой голос снисходил, а к тебе…
— Погоди. Не насмешничай. Я дело говорю. Помнишь ли, каков царь был на допросах? Передавали, когда Каховский стал ему говорить, что отечество и народ несчастны, что, ежели бы Николай был на нашем месте, он бы сам, как мы, поступил, — а царь, слыша это…
— Знаю. Заплакал.
— Да! И стал уверять Каховского: «Я сам есть первый гражданин отечества!.. Кто может сказать, что я не русский?..» А с Гангебловым? Как распознал, что перед ним юнец, ведь поматерински запричитал: «Что же вы, батенька, наделали? Ах, что наделали?» Взял его под руку, стал с ним ходить: «Видите, я с вами откровенен. Платите и мне тем же…» Как тому было не растаять?
— Чтó Гангеблов! Он и брату моему Николаю, когда тот ему в глаза выложил, что покойный Александр сам был во всем виноват, что у нас шестьсот тысяч законов, а закона нет, не то что выслушал, а руку протянул: «Спасибо за откровенность, Бестужев, ты мне глаза открыл. Даю честное слово, ты отделаешься только годовым заключением». И обедать дал, да еще с шампанским. Брат после говорил, что никогда так дорого не платил за бутылку «Клико»…
— Именно! Он, император то есть, ведь умен был, отого не отымешь! Он сразу понял, на чем тут надобно играть. Понял, что эти люди на благородство падки, что они навстречу откровенности сами душу откроют, что честное слово для них и есть честное… Лучшее в них разглядел — и как использовал… Куда Ипполиту? И впрямь — недоумок! Неуч! Вот кто умелец! Вот кто мастер! Он, Николай! Вот кто посеял неверие и недоверие… Поверишь ли, я, вспоминая те годы, себя самого ловлю: не чересчур ли был мнителен? Что Николай нас боялся, даже и сославши сюда, этого как не понять? Но то, что и меня подозрения мучили, особенно как нагляделся на того ж Ипполита, это, скажу я тебе… Да ты помнишь ли, как в Завод году, чтобы не ошибиться, в тридцать третьем, зимою, заявился с непонятной какой-то ревизией некий жандармский ротмистр? А при нем в писарях человек лет этак сорока. Так и вижу его: франт франтом, сюртук гороховый и белье белизны необыкновенной…
— Так это Медокс! Разумеется, помню! Мы ведь с братом знавали его по Шлиссельбургу, — тебя туда в ту пору еще не привезли из Кексгольма, а он, бедняга, досиживал чуть не тринадцатый год. Еще Юшневский тогда обучил его тюремной нашей азбуке и хоть через стену, а с ним подружился. Я и по Заводу помню его, — преинтересный собеседник, и уж вот где…
Бестужев приостановился и приосанился, дабы ощутимее нанести укол позабытому было Дмитрию Иринарховичу.
— …Вот где была истинная-то образованность. Кажется, все на свете знал и умел, словесность, историю, рисовал, как сам Доу, а языки знал, словно родные, — и по-немецки, и по-французски, и по-английски… Да английский-то, впрочем, кажется, и был у него родным.
— Точно, он. Медокс. А по имени, ежели не совру, Роман… Да, так и есть. Не соврал. А почему помню? Потому что Вольф, завидев его в Петровском, кинулся ему на шею: «Любезный Медокс! Какими судьбами?» И замешательство вышло: Медокс-то, он взаправду Медокс, да только Вольфа в глаза не видал. «Как так? Ведь вы такой-то?» — «Точно так, такой-то». — «Василий?» — «Нет, извините, Роман». Оказалось, наш лекарь с его братцем в Московском пансионе воспитывался, так, говорит, очень схожи.