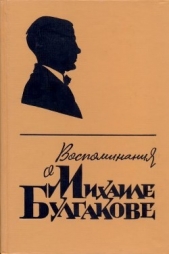О времени, о Булгакове и о себе
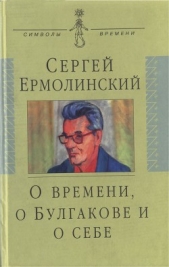
О времени, о Булгакове и о себе читать книгу онлайн
С. А. Ермолинский (1900–1984) — известный сценарист, театральный драматург и писатель. По его сценариям сняты фильмы, по праву вошедшие в историю кинематографа: «Земля жаждет», «Каторга», «Поднятая целина», «Дорога», «Неуловимые мстители» и мн. др. Он является автором ряда пьес, постановка которых была отмечена как событие в театральной жизни: «Грибоедов», «Завещание» и «Ни на что не похожая юность».
Но сам он главным делом своей жизни считал прозу, которой посвятил последние годы, и прежде всего повесть-воспоминание «Михаил Булгаков». Они были близкими друзьями, несмотря на разницу в возрасте, и эту дружбу Сергей Александрович пронес через всю жизнь, служил ей преданно и верно, ни разу не отступившись даже в самых страшных обстоятельствах.
В книгу вошли отрывки из автобиографической повести «Юность», «Записки о Михаиле Булгакове», в том числе и не публиковавшаяся при жизни автора вторая, незавершенная часть — «Тюрьма и ссылка. После смерти», воспоминания друзей. В приложении даны письма к Ермолинскому М. А. и Е. С. Булгаковых, протоколы допросов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Во-первых, — начал я, — мне надобно поблагодарить вас, Сергей Михайлович…
— Вы не меня благодарите, а Черкасова, — перебил он меня.
— А Черкасов сейчас здесь?
— Здесь. Но не вздумайте идти к нему. Сахновский сунулся было, так он на него взвизгнул Полежаевским голосом: «Вы что, батенька, смеетесь надо мной? Не забывайте, я царь Иван Грозный! Царь!»
Я не успел ответить Эйзену, как ворвался Пудовкин. Был он, не в пример Сергею Михайловичу, эмоционально взвинчен, что вообще было ему свойственно.
— Простыня! Вы понимаете, Анна Николаевна задумала адский план обмена ее на соль, или сахар, или что-то еще в этом роде, но я вовремя схватил эту простыню.
— Вы поступили правильно, Всеволод Илларионович, — сказал Эйзен, раскланявшись в мою и в его сторону.
— Где он достанет простыню? Смешно! — воскликнул Пудовкин. — Прошу, Сережа, чем, как говорится, богат.
Едва они ушли, пришел Козинцев, слегка напряженный. На его руке был перекинут черный клеенчатый плащ. Свою миссию он выполнял с некоторой неловкостью и сдержанно, с той ленинградской вежливостью, которой всегда отличался, объяснил мне, что пальто мое, по наблюдению Софочки, не подойдет к сезону, а у него имеется плащ, вполне хороший…
Записал все это и подумал, а не выгляжу ли я в этом рассказе хвастунишкой: вот-де какие люди опекали меня! Не был я ни их учеником, ни тем более наставником, да и другом не был, просто у меня с ними сложились хорошие отношения, но никак не близкие (ближе всего, пожалуй, с Пудовкиным), но тогда я был ошеломлен и растроган. А тут еще в дверь просунулась голова Якова Ильича Райзмана, отца Юли.
Мало сказать, что он был человек незаурядный, вся его жизнь подтверждала его необыкновенные способности. Местечковый портняжка, он выбился в одного из самых модных портных дореволюционной Москвы. Разбогател. Революция его разорила. Он стал работать в пошивочных мастерских у железнодорожников, его отметили грамотой ударника. Во время нэпа затеял мануфактурное дело. Опять разбогател и опять разорился. И все свои разорения переносил без сокрушений, ему было весело жить. Когда возник Торгсин, а затем «Интурист», он возглавлял пошивочную мастерскую, заказчиками которой могли быть лишь дипломаты из Наркоминдела или интуристы, владеющие валютой. Мастерская помещалась в «Метрополе». Сам Яков Ильич шитьем не занимался, он лишь руководил примеркой, указывал крой, угадывал нужную линию, точно ее намечал. Он был художник, мастер! Самоучка, не получивший никакого образования, был начитан, собрал прекрасную библиотеку, любил беседы на самые заковыристые философские темы.
— Входите же, Яков Ильич, входите! — восклицал я, увидев его, осторожно приотворившего дверь в мой номер.
— А я сразу и прибежал, как только узнал, что вы приехали, — говорил он, обнимая меня. — Ай-яй-яй, какие дела, какие беды!.. Но крутимся, крутимся. Вот, слава богу, и с вами обошлось! А меня вывезли вместе с Юлечкой, представляете, и я угодил в кинематограф. Так это же кавардак, а не заведение! Правда, я работаю с Сергеем Михайловичем, это интересно. «Иван Грозный», сами понимаете. Но как посмотришь кругом… Это же художественная интеллигенция. Так они же о чем думают? Ой!.. Послушайте, так это же на вас мой костюм?
— Ваш, Яков Ильич.
— Ничего себе, загваздали. Хотя я понимаю, ну… еще бы! Встаньте-ка! А с вас половина осталась. Висит, как с какого-то бывшего человека. Но это разве беда! Это же пустяк! Давайте мерочку снимем. — Говоря это, он быстро обмерял меня и записывал в свою книжечку цифры. — Очень хорошо получится. Посидите в подштанниках, дверь на ключ, потом выспитесь как следует, и утречком я принесу вам вещь! Спокойной ночи. Ах, как я рад, что вы живой!
Я остался один. Впрочем, нет, еще прибежал Мика Блейман и принес мне чайник и стакан, а Надя Бриллианщикова, жена режиссера Корша-Саблина, — электроплитку, сказав: «Только прячьте, комендант не разрешает». Затем я последовал совету Якова Ильича: заперся на ключ и притаился. Надо было разобраться во всем, что произошло за этот суматошный день, полный впечатлений.
Что-то изменилось в людях, что-то перевернулось в них!
Да, общая беда объединила. Они потеплели душой. Но не только это.
В конце тридцатых годов словно все дверные замки были сломаны, и в любую минуту в дом могло ворваться несчастье. Это касалось всех, даже самых благополучных, отмеченных успехами, милостями, признанием заслуг. В этом никто вслух не признался бы, напротив, не чересчур ли старательно славословили, произносили речи, возвеличивая время, в какое жили? От самих себя прятали внутреннее дрожание, но оно притаенно не оставляло никого… И еще: до войны общество все отчетливее расслаивалось на ранги. Одни восходили по лестнице славы, теша свое честолюбие, все больше возвышаясь, и житейские блага, которые они получали, с каждым днем все более отрывали их от остальной массы обыкновенных людей — обывательского быта, серой жизни. А сейчас это стерлось. Вдруг почти совсем потерялось… Те, кто и в военных условиях был наделен лучшими пайками, не только не кичились ими, но, напротив, даже вроде бы стыдясь, старались не подчеркивать этого.
И получалось, что по внешним признакам все жили одинаково.
В этом как бы отразилась чистота тех лет — душевный уют, если угодно, тех трудных, подчас очень трудных дней, а то и прямой беды и горя, потому что редко у кого не было близких на фронте, вдруг обрывались вести о них или приходили похоронки…
Всех это касалось, всех, всех!
Вечером выбегали из своих комнат, стояли тесно в холле «Дома Советов», слушали военную сводку, и сердца людей бились одинаково, в унисон, с одним общим придыханием вникали в каждое слово, произносимое Левитаном.
Когда отодвинулось это время, о нем вспоминалось с теплом, потому что было тогда неповторимое человеческое единение. Потом оно вновь распалось, расслоилось: после войны. И с каждым годом все резче. За высокими заборами вырастали собственные дачи, на престижных машинах катили люди, равнодушно поглядывая на серый поток людей, измученных служебными заботами, дрязгами, очередями, толкучкой в метро. Впрочем, и у них, и у этих пресловутых «винтиков», как по команде, как машина, одинаково аплодирующих тому, у кого в этот момент палка в руках, у них тоже произойдут перемены. Они вселятся в одинаковые квартиры, в одинаковые клеточки, как в соты ульев, в шеренгу выстроенных небоскребов, и усядутся под одинаковыми оранжевыми абажурами перед своими телевизорами. Мещанин удушит революцию, как говорил Герцен. И сочтется это за должное, за достигнутое наконец государственное равновесие, оснащенное умелым карьеризмом прочной, крепкозадой бюрократии. Закономерно зашелестят под окнами машины собственников, вознесшихся на недоступные верхотуры социальной лестницы. Все это мы еще увидим, и не удивимся, и привыкнем, и посчитаем под гром аплодисментов, что жизнь выровнялась, и забудем, как бедовали в военные годы и были равноправны в нашей общей беде…
Да, я ощущал удивительное человеческое тепло в Алма-Ате, посматривая на подушку Эйзена, простыню Пудовкина, плащ Козинцева, и думал, что никакой я не отверженный, не «социально опасный». Словно канули в Лету те совсем недавние времена, когда после моего ареста многие знакомые, даже близкие, старались не встречаться с моей женой, не звонить ей: боялись. Можно было стереть мое имя, обворовать меня безнаказанно, делать со мной что угодно… Э, казалось, было и прошло! Прошло ли?
Я тогда не думал об этом. Сердце мое согрелось. Так началась моя алма-атинская жизнь: радушно! И что греха таить, сперва я даже расслабился. Я просто задохнулся от чувства свободы. И, честное слово, некоторое время даже стал бонвиванствовать!.. Помню, Михаил Папава, входивший в моду сценарист, говорил мне, играя в шахматы:
— А ведь вокруг вас веет романтический ореол! Вы здесь как Лермонтов.
Он показывал мелкие зубы, улыбаясь, и теребил светлую бородку (первый бородач в нашей среде, тогда бород еще не носили), и я отвечал ему: