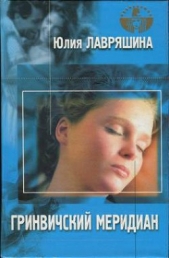Сдача и гибель советского интеллигента, Юрий Олеша

Сдача и гибель советского интеллигента, Юрий Олеша читать книгу онлайн
Написанная со страстью и горечью, пером ярким и острым, книга "Юрий Олеша" показывает драму талантливого советского писателя, сломленного в результате мелких и крупных компромиссов с властью. Но проблема поставлена автором шире - о взаимоотношениях интеллигенции и тоталитарного государства, интеллигенции и революции.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В эпоху "Зависти", когда общественная дифференциация была выражена чрезвычайно остро, конфликт поэта с обществом мог не одобряться, но общество не могло не признавать существова-ние конфликта. Художнику страшно не поражение, а вынужденный отказ от борьбы. И в такие эпохи, когда общество еще социально многообразно и противоречиво, конфликт может отсутство-вать только в том случае, когда общество окончательно и безоговорочно подчиняет себе художника.
Складывалась другая концепция, которую можно было принять за прежнюю.
Усомнившись в прочности соединения прекрасных намерений с искусством и обнаружив, что при соединении остаются почему-то лишь прекрасные намерения, Олеша понял, что время сомнений закончилось.
И тогда остались только прекрасные намерения.
Писатель сделал неправильный выбор, потому что он думал, что можно выбирать между тем, чтобы писать то, что хочется, и тем, что не хочется, а можно было выбирать лишь между тем, чтобы писать то, что не хочется, или не писать вовсе.
Впрочем, время действовало на Олешу не по одним ведомственным каналам. Больше чем рапповское нашествие на его литературный путь оказали влияние обстоятельства, породившие этих завоевателей.
Выбрав прекрасные намерения, он закономерно оказался перед необходимостью пересмотреть свое старое представление о назначении искусства.
Ранними плодами пересмотра были "Строгий юноша" и обильные высказывания на эстетические темы.
Все, что сделал Юрий Олеша в течение последних двадцати шести лет жизни, было начато в это время.
Складывалась новая эстетическая концепция, которую так легко было принять за прежнюю. Которую так легко было выдать за прежнюю себе и другим.
Для того чтобы спутать концепции, нужно было лишь "закрывать веками... свои глаза". Этими словами "Толковый словарь живого великорусского языка" Владимира Ивановича Даля объясняет слово "зажмуривать, - ся". "Он зажмурился, зажмурил глаза, - продолжает Даль, - или не хочет видеть, слышать, что делается".
Отличие новой эстетической концепции от старой заключалось в том, что прежде Олеша считал неизбежными противоречия поэта и общества при всех обстоятельствах, теперь же он понял, что противоречия возникают только в том случае, когда поэт начинает шагать против общества.
Новая концепция не легко и не сразу давалась Юрию Олеше. Она потребовала жертв, и Юрий Олеша принес их.
Одной из первых жертв был Шостакович, ближайший друг, которым он восхищался и о котором сказал:
"Когда я писал какую-нибудь новую вещь, мне среди прочего было также очень важно, что скажет о моей новой вещи Шостакович, и когда появлялись новые вещи Шостаковича, я всегда восторженно хвалил их".
Не желая видеть, слышать, что делается, и желая зажмуривать, - ся, Юрий Олеша сказал:
" - И вдруг я читаю в газете "Правда", что опера Шостаковича есть "Сумбур вместо музыки". Это сказала "Правда". Как же мне быть с моим отношением к Шостаковичу?
Статья, помещенная в "Правде", носит характер принципиальный, это мнение коллективное, значит: либо я ошибаюсь, либо ошибается "Правда". Легче всего было бы сказать себе: я не ошибаюсь, и отвергнуть для самого себя, внутри, мнение "Правды".
К чему бы это привело? К очень тяжелым психологическим последствиям.
У нас, товарищи, весь рисунок общественной жизни чрезвычайно сцеплен. У нас нет в жизни и деятельности государства самостоятельно растущих и развивающихся линий. Все части рисунка сцеплены, зависят друг от друга и подчинены одной линии. Эта линия есть забота и неусыпная, страстная мысль о пользе народа, о том, чтобы народу было хорошо. Если я не соглашусь с этой линией в каком-либо отрезке, то весь сложный рисунок жизни, о котором я думаю и пишу, для меня лично рухнет: мне должно перестать нравиться многое, что кажется мне таким обаятельным. Например, то, что молодой рабочий в одну ночь произвел переворот в деле добычи угля и стал всемирно знаменитым... Или то, что советские стрелки в состязании с американскими оказывают-ся победителями, или то, что ответы Сталина Рой Говарду с восторженным уважением цитирует печать всего мира.
Если я не соглашусь со статьями "Правды" об искусстве, то я не имею права получать патриотическое удовольствие от восприятия этих превосходных вещей - от восприятия этого аромата новизны, победоносности, удачи, который мне так нравится и который говорит о том, что уже есть большой стиль советской жизни, стиль великой державы (Аплодисменты). И поэтому я соглашаюсь и говорю, что на этом отрезке, на отрезке искусства, партия, как и во всем, права (Аплодисменты). И с этих позиций я начинаю думать о музыке Шостаковича. Как и прежде, она мне продолжает нравиться. Но я вспоминаю: в некоторых местах она всегда казалась мне какой-то пренебрежительной (Аплодисменты). К кому пренебрежительной? Ко мне. Эта пренебрежитель-ность к "черни" и рождает некоторые особенности музыки Шостаковича - те неясности, причуды, которые нужны только ему и которые принижают нас.
Вот причуды, которые рождаются из пренебрежительности, названы в "Правде" сумбуром и кривлянием. Мелодия есть лучшее, что может извлечь художник из мира. Я выпрашиваю у Шостаковича мелодию, он ломает ее в угоду неизвестно чему, и это меня принижает. У нас совсем особая жизнь и у нас видят правду (Аплодисменты).
Все дело в том, что у нас единственное, из чего исходит мысль руководства, - есть мысль о народе. Интересы народа руководителям дороже, чем интересы того искусства, так называемого изысканного, рафинированного, которое нам иногда кажется милым и которое в конце концов является так или иначе отголоском упадка искусства Запада.
Товарищи, читая статьи в "Правде", я подумал о том, что под этими статьями подписался бы Лев Толстой... (Аплодисменты)"1.
1 "Великое народное искусство. Из речи тов. Ю. Oлеши". - "Литературная газета", 1936, 20 марта, № 17 (580).
Он понимал, что это значит, когда говорит "Правда". Он - понимал, что такое долг. Он знал, что такое неумолимое требование эпохи и непоколебимые законы социально-экономического развития. Так надо. На горло собственной песне. Какой должна быть твоя жизнь? Он знал, какой:
Юноше,
обдумывающему житье,
решающему
сделать бы жизнь с кого,
скажу,
не задумываясь
Делай ее
с товарища
Дзержинского1.
Также твердо он знал, что:
"...если он (век, эпоха.- А.Б.) скажет: "Солги" - солги. Но если он скажет: "Убей" - убей"2.
1 В. Маяковский. Поли. собр. соч. в 12-ти т. Т. 6, М., 1940, с. 335.
2 Э. Багрицкий. Победители. Стихи. М.-Л., 1932, с. 34.
В эти годы особенно значительные идеи внедрялись с ошеломляющей силой, и оторопевший художник лишь разводил руками, поражаясь, как он мог до сих пор жить в неведении и темноте.
Когда очень много говорят и хочется, чтобы говорили еще и еще о чем-нибудь прекрасном - о цветах или об успехах в области водопровода, то в один неповторимый миг на людей это начинает действовать совершенно поразительно: как удар по голове. Они теряют сознание, и в это время с ними можно делать что хочешь.
Подобные явления восходят к практике удаления кариозного зуба в эпоху временного татарского ига (1237-1480).
Зубы в ту замечательную эпоху драли так:
Несчастного сажали на пень, четыре мужика заламывали ему руки-ноги, пятый с разбегу стукал деревянной кувалдой по голове, шестой - драл.
Научно доказано, что для подлинного понимания какого бы то ни было явления, его - это явление - следует рассматривать на социально-историческом фоне. Каков же был социально-исторический фон выступления Юрия Олеши? А вот каков.
Замечательный негодяй Д. Заславский в своей знаменитой статье отметил, что "композитор, видимо, не поставил перед собой задачи прислушаться к тому, чего ждет, чего ищет в музыке советская аудитория. Он словно нарочито зашифровал свою музыку, перепутал все звучания в ней так, чтобы дошла его музыка только до потерявших здоровый вкус эстетов-формалистов. Он прошел мимо требований советской культуры изгнать грубость и дикость из всех углов советского быта"1. "Эта игра в заумные вещи, которая может кончиться очень плохо..."2