Дочки-матери
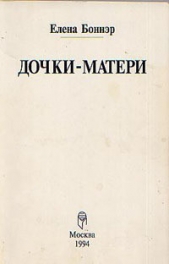
Дочки-матери читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда я пришла к Севе после лета, смеющаяся Лида сказала, что ей надо встать на цыпочки, чтобы меня поцеловать. А мне надо больше не расти, иначе я перерасту Севку. Днем у нее в комнате работали Нарбут, Харджиев, Поступальский, еще кто-то. Постоянно была Сима. Вечерами собиралось много гостей, так что становилось тесно. Чай пили, сидя не только за столом, но около тумбочки, под зеркалом и на подоконниках.
Но нам было не до взрослых. У Севки в комнате тоже было столпотворение. Мы собрались издавать журнал. Начались горячие споры из-за названия, потом выбирали, что печатать. «Портфель» нашей «редакции» очень быстро оказался переполненным. Мне сейчас не вспомнить тех, кто приходил в те месяцы, спорил, писал, правил рукописи. Когда у Лиды бывала свободной машинка, она давала ее мне и я одним пальцем пыталась что-то напечатать. Иногда Лида ужасалась моей грязной работой и, улучив минутку между своими гостями и другими делами, печатала нам сама. Журнал назвали «Спутник». Было два редактора — Всеволод Багрицкий и Марк Обуховский. Я была при них помощником. Севка острил — «нетворческий» помощник. Это была правда, потому что я была единственной ничего не пишущей, даже не пытавшейся. Авторов было много. Георгий Рогачевский писал героико-романтические стихи. Так больно, что я все забыла! Только одно четверостишье осталось в памяти: «Пусть недолго прожить, но чтоб ярче сгореть, чтобы полюс и льды растопить и согреть». Я считала Гогу законченным, настоящим, большим (и еще много, много эпитетов) поэтом.
Когда Гога, откинув голову на тонкой, как у младенца, шее, читал свои стихи, в комнате становилось тихо. Так внимательно, как Гогу, мы не слушали никого. Мне казалось, что Сева немного ему завидует. Но читал Сева стихи — и свои, и чужие — лучше Гоги. Теперь я уже любила авторское чтение и всякое «актерское» считала пошлостью. А Гога постепенно стал реже бывать с нами. Действительно, его новая школа была далеко. Он много занимался. Начал где-то подрабатывать. И влюбился. Надолго. На всю свою короткую жизнь. Девочка из новой его школы, удивительно стройная, рыжая, с розовым лицом и зелеными глазами, была победительно красива. И имя у нее было победное. Как-то года через два мы большой группой ездили купаться на водохранилище. Я лежала на песке и из-под ладони смотрела на Викторию, только что вылезшую из воды. Она была как статуя, которую окунули в расплавленное золото. Распущенные золотые волосы текли по плечам, а потом это нестерпимое свечение переходило на золотой пух рук, спины, ног. Все парни на берегу, как по команде «равняйсь», смотрели на нее. И среди них — наш Гога, длинный, тощий, с трогательно невзрослой шейкой. «Пусть недолго прожить...» Это и было недолго: в двадцать лет начальник штаба танкового полка капитан Георгий Рогачевский погиб на Курской дуге. Про Викторию я с юности ничего не слышала.
В журнале было много стихов. Мика Обуховский напечатал поэму о грехопадении. Она кончалась строчками: «...так был в порочный мир наш возвращен последний из отшельников Святой Антоний». Севка долго думал, поставить ли мои инициалы как посвящение к стихотворению, одно слово в котором я давно забыла. Из-за этого мы с Лидой не включили его в книжку. Там были такие строчки: «Что-то черное мне в память въелось, платье, волосы, не помню что. В голове жужжало и вертелось та-та-та-та мыслей решето. Помню, раскричался вечер резкостью гудков, шуршаньем шин. Гул ворвался бесконечной течью в яркость озеркаленных витрин. Фонарями он повис, качаясь над блестящей ровностью шоссе и, в победе навсегда отчаясь, над прудами загорода сел». Это было первое мне посвященное стихотворение. Оно казалось мне очень серьезным, даже трагичным. Севка спросил, ставить инициалы или нет. Я сказала — нет. Но огорчилась, что посвящения нет, и обиделась, что он у меня спрашивал. Обида очень скоро прошла. Ляська Гастев писал о живописи. Игорь Российский — о музыке. Что-то вроде политических статей — Митя Валентей. Боря Баринов писал рассказы — юмористические, под Зощенко. Володя Саппак уже писал о театре. Были еще авторы-мальчики. Пишущая девочка была только одна — Валя Кириллова. Помню ее строчку:
«...паровоз, паровоз, красные колеса...» и дальше что-то бодрое, коммунистически-комсомольское.
Когда арестовали поэта Кириллова и его жену, девочек Валю и Надю забрали в детский дом. И больше ничего я о них не знаю.
Тираж нашего журнала был пять экземпляров. Вышло два номера. Один экземпляр первого номера есть у меня на антресолях. Я все ругаю себя, что не могу до него добраться. Где остальные? У кого? Сохранились ли?
Иногда в вечернем маршруте вокруг Кремля начинались разговоры о политике. Ребята спорили. Страстно обсуждали. Шел процесс. Печатались речи Генерального прокурора. Резолюции митингов. Севка газет не читал и от этих разговоров уходил. Молчал. Шел. Посвистывал. Начинал читать стихи. Предлагал угадать, чьи. За ним на стихи переключались все. Я никогда не могла понять, действительно ли его не волнует все, что вокруг, или он не хочет это обсуждать. А за собой заметила, что не хочу больше читать газеты, слушать какие-то политинформации, вскрывать папины пакеты. Меня это ранит, разрушает то счастливое, праздничное чувство полета, с которым просыпаюсь по утрам и тороплюсь увидеть Севку.
У Исполкома Коминтерна был небольшой дом отдыха в нескольких километрах от Кунцева, на берегу Сетуни. Сотрудники вместе с семьями ездили туда на выходные дни. Дети обычно проводили там и каникулы — зимние и весенние. Никаких воспитателей и надзирателей за детьми там не было. За питание и жилье там платили, сколько — не знаю. Но все там было «по высшему рангу». Однако пользовался этим домом отдыха, видимо, только «высший эшелон власти» Коминтерна. Семьи моих люксовских подружек и приятелей там никогда не бывали. Видимо, они не принадлежали к коминтерновскому «истеблишменту».
Подростки крутили в Кунцеве романы и вели (особенно девочки) многочасовые беседы «по секрету». Мальчики, когда не было взрослых, крутились в биллиардной. У меня не было дружбы и даже приятельства ни с кем из детей, бывавших в Кунцеве. Но само это место мне очень нравилось. Весной там все напоминало Сестрорецк, особенно Сетунь, протекавшая очень близко от дома, под горой. Хотя она была значительно меньше Сестры, но ее причудливая извилистость, заросшие кустарником (ох, сколько там было черемухи!) берега влекли меня постоянно. И Кунцево было моим любимым зимним загородом. По полдня, опаздывая то к обеду, то к ужину, бродила я одна, замирая от восторга и задыхаясь от любви ко всему, что открывалось моим глазам. И воспоминания о Кунцеве — не о доме отдыха, а о месте, лесе, реке, пригорках и оврагах — относятся к самым светлым.
Уезжали в Кунцево обычно на машине к ужину в субботу и возвращались в воскресенье после ужина.
В седьмом классе я стала отказываться ездить в Кунцево. Мама настаивала, и у нас бывали жестокие скандалы. Однажды даже она меня, не взяв после моих протестов, заперла вечером в квартире. Тогда я нашла путь к «вылезанию из дома» — через окно в моей комнате на балкон, а потом через номер 8 в коридор.
Я стала ощущать себя несколько парией среди девочек, там бывавших. Тогда я про себя называла их «воображалы» или «задаваки». Почему в общении с ними у меня ничего не получалось — не знаю. Они были чуть старше, больше барышни, что ли. Контакта не возникало, и это было мне неприятно.
В этом году мы — наша компания — собирались впервые встречать Новый год по-настоящему, по-взрослому, вскладчи-ну. Решили собираться у меня, потому что у нас просторней, чем у других. Разговоры, обсуждения, сбор денег и составление списка, что купить, начались чуть ли не за месяцы. Оказалось, что во всем этом я понимаю меньше других девочек, и меня ото всего отстранили. Только велели выяснить, сколько у нас тарелок, вилок, чашек и рюмок. Рюмки меня несколько насторожили. У нас в доме ничего, кроме сухого вина, не пили. Но девочки меня успокоили, что будет совсем мало вина и одна бутылка шампанского. Я долго думала, сказать маме или нет про вино. Решила заранее не говорить. Когда я спрашивала ее разрешения собраться у нас, она сразу и спокойно разрешила. Сказала, что, конечно, можно. Да я, спрашивая, и не сомневалась, что разрешит. Мама всегда предпочитала, чтобы я со всей компанией была дома, чем куда-нибудь уходила. Но она поморщилась, когда я сказала, что это будет складчина. И предложила мне, пусть Монаха напечет нам пирожки и сладкое. И будет торт и конфеты. И можно купить что-нибудь в магазине «Восточные сладости». Это был магазин, любимый всей нашей семьей. Но я ее умолила, объяснив, что все ребята хотят складчину, что иначе они решат собраться в другом доме. И мама согласилась. Почему я так ждала этот праздник, я не знала.
























