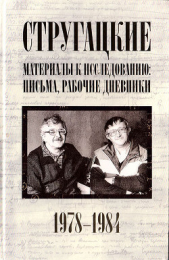Дневники 1930-1931

Дневники 1930-1931 читать книгу онлайн
Книга дневников 1930–1931 годов продолжает издание литературного наследия писателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
3 Ноября. Все более определяется в лягушечьем царстве, что действительно упал к ним новый чурбан. После всего пережитого ни одна лягушка более не сомневается, что это не царь, а чурбан, весь вопрос только, на что бы скакнуть, чтобы потом залезть на чурбан. В последнюю революцию нас всех вытащил, конечно, Воронский (тайным вдохновителем был, наверно, Троцкий), Луначарский был! Кто же теперь просто заступится за творчество? {174} Или должна пронестись такая же волна, как прошлый год, волна варварств, разбившая колокол Годунова — да вот и нас, последних из могикан, также будут валить друг на друга и бить, как тяжелые колокола?
6 Ноября. В 11 в. во вторник от Левы из Ташкента: «завтра (значит, в среду) аэропланом домой». Явился вопрос о глаголе — «приеду» или «отправляюсь». По-видимому, «отправляюсь». Сегодня ждем.
Туляки.
Тульские колодец делают (10 саж. — 400 руб. + дерево, все под 1000 руб., у нас 6 ½ саж. — руб. 600–700). Один туляк на дне в бадью накладывает глину. Остальные у ворота ходят. Рассказывали, что Лев Толстой к ним приезжал смотреть: «тоже, как вы, любопытствовал». Белый, на белой лошади. Хороший человек, народ любил. Про германский плен рассказывал: умный порядок. А вождь-то какой, Вильгельм. И то ведь сдал! — А что теперь у Николая-то борода уж отопрела?
7 Ноября. Всю ночь шел дождь и к утру, к празднику так расхлябилось, что без чувства подавленности нельзя было глядеть на улицу. В грязи и тьме видишь, все равно как закрывши глаза, ведь продолжаешь видеть внутренним глазом, так видишь в грязи и тьме нашей жизни те же самые отношения людей между собою, как и в их чистой жизни, только там, в чистой среде, каждому довольно умыться, чтобы казаться и слыть за чистого, а теперь, когда мылом ничего не сделаешь…, эта чистота, любовь, доброта, нежность, дружба и все другие добродетели являются лишь в отдельных существах; слов нет, этих отдельных не уменьшилось против прежнего, но их фонарик света закрыт черным, невидим и потому, в общем, все представляется грязно и мрачно.
<На полях:> (но их свет для обыкновенных людей закрыт. Скажут, сущность не изменилась. Да, но поверхность все-таки грязная, темная. Закон творческих сил остался тот же, и будущая жизнь прекрасней, гем настоящая).
<На полях:> Так ведь и солнечный свет играет только по наружной стороне, а между тем в солнечный день все чувствуют себя много лучше, гем в пасмурный.
К. вчера рассказывал, что на фабриках и заводах ходят бригады каких-то «писателей» и говорят рабочим: «Товарищи! у нас на литфронте прорыв, идите помогать писателям {175}» и т. п.
Я вчера в лесу в кустах спугнул какого-то оборванца, у него был карандаш в руке и тетрадка, — это, конечно, «писатель». Было очень мрачно в этих ноябрьских кустах, голых совершенно и подостланных желтой травой. Оборванный поэт, молодой человек, безумными глазами окинул меня и побежал…
Потом встретился сумасшедший Алекс. Ив. Майоров, нес провизию с рынка и не удержался: из-под хлеба достал переплетенную тетрадку своих стихов, тех самых, которые отвергли все редакции. Он уже, было, совсем отчаялся и запил на некоторое время, я думал — кончилось. Нет, вот опять. Он же теперь вновь все переписал, многое исправил, переплел. «Может быть, теперь напечатают?» — робко спросил он. Неизлечимая болезнь, куда хуже алкоголя. И сколько их!
Все это порождение односторонности в жизни общества: потому все безумие, что смеяться нельзя. (У советского гражданина два страстных желания: 1) работать на свое счастье, 2) смеяться.)
Начинаешь понимать французов, почему у них «ridicul» есть самое страшное для человека: потому что хоть в самой малой степени, но каждый имеет какую-то частную мечту, которую он тщательно скрывает от других и должен непременно скрывать до тех пор, пока она внутри себя до того окрепнет, что с ней можно «выступить». Необязательно ни это выступление, ни даже намерение сделать это маленькое, но истинно свое, публичным. Во всяком случае, нечаянное обнажение ужасно, невольное обнажение этого для себя самого убийственно, а для других смешно. Вот этого смешного и боятся французы. Но если в обществе запрещен смех как у нас, то вот это тайное перестает бояться чего-нибудь, наглеет и господствует: является множество тупоумных невежд, до крайности самолюбивых и, конечно, тут один шаг до мании. Вот почему графомания. Без смеха жизнь превращается в манию.
Смех — это жало мысли. Просто идейная жизнь без смеха — тупая.
«Нет (ничего) хуже людей, натертых умом и знанием», как говорила покойная г-жа Жофрень (из письма Екат. II к Гримму).
Вчера К. высказал свою мучительную мысль: «А что если окажется возможным создавать насилием, приступить с ножом к горлу, крикнуть "делайте!" и все будут делать хорошо». Создал же Петр I Петербург? И почему же простых работников можно заставить, а сложных нельзя: вот инженеров заставили же.
— Менее счастливые, но более достойные…
Проснулись вечером, я удивился странному свету на обоях комнаты и выглянул в окно: береза моя светилась в чисто золотых лучах заходящего солнца так ярко и так необыкновенно и так неожиданно, что я серьезно взялся за бороду и, потянув, убедился, — это не сон! Потом, когда село солнце, долго оставалась желтая заря, — ведь так это редко теперь и после такого ужасного дня. Потом явилась луна и осталась на всю ночь.
Я до полночи ждал Леву, прислушиваясь к извозчикам после каждого поезда, и не дождался. Итак, он летит из Ташкента три дня. Послезавтра буду разыскивать.
8 Ноября. Опыты с фотографией убедили меня в возможности продолжить литературно-худ. реализм, иллюстрируя свои художественные находки фотоснимками. Я убедился в том еще, что в обыкновенных фотоработах получается «фотографичность», а не художественный реализм только потому, что фотографы подчиняют себя воле машины-камеры, а не пользуются ею, как писатель пером и художник кистью. Если же понимать фотографию как техническую возможность реализации худ. восприятия, то выразительность снимков получается чрезвычайная. Вместе с тем в литер. — худож. произведении «иллюстрация», имея единое происхождение с текстом, должна дать сочинению большую простоту и выразительность.
Эту мысль я развиваю в книге, посвященной «охоте с камерой». В Америке и Англии очень развит спорт «охоты с камерой» и, конечно, чтобы книга не попадала в узкий круг спортсменов, она должна иметь более широкое название. Но тема ее именно «охота с камерой». Она будет составлена из ряда охотничьих рассказов и очерков с фотоснимками. Один из главных рассказов представляет нам 7-летнего деревенского мальчика, заблудившегося в огромном лесу {176}, его переживание, его спасение. Как и в «Робинзоне» у Дефо здесь взят в основу тоже факт, но разработан с чрезвычайным реализмом вплоть до фотографии, до краеведения без погашения чисто худож. значения рассказа.
Другие рассказы и очерки часто посвящены обстоятельствам, из которых возник тот или иной снимок.
Последний «Переход». Моя печаль в этом году перешла в отчаяние, потому что я ведь художник, я отдал уже этому всю свою жизнь и вот это последнее, артист-писатель, сбрасывается вниз, в лишнего человека, как последний балласт, чтобы власть могла продолжать еще немного лететь. Мое отчаяние велико, потому что вместе с этим творческое начало жизни, сама личность человека падает. Я у границы того состояния духа, которое называется «русским фатализмом», мне стало чаще и чаще являться желание выйти из дому в чем есть, и пойти по дороге до тех пор, пока в состоянии будешь двигаться и, когда силы на передвижение себя вовсе иссякнут, свернуть с дороги в ближайший овраг и лечь там. Я дошел до того, что мыслю себе простым, вовсе не страшным этот переход, совсем даже и не считаю это самоубийством. И вот замечательно, что это состояние духа, предельное на другой своей стороне, имеет вид необычайной жизнерадостности, какая-нибудь безделица, кофей из-за границы и т. п. чрезвычайно радует. А если бы я добился лицензии на Лейку с 3-мя объективами, мне кажется, я задохнулся бы от радости. Эта жизнерадостность и есть главное в «русском фатализме», которое никак не самоубийство, а сознание необходимости своего «перехода», несмотря на все прелести мира.