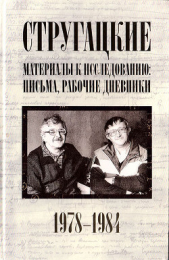Дневники 1930-1931

Дневники 1930-1931 читать книгу онлайн
Книга дневников 1930–1931 годов продолжает издание литературного наследия писателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Преображенский типичный партиец, речи очень хорошо говорит, привык властвовать тоже и все повадки его генеральские, так и прет из него «актуальность» и тоже, как у сановников, склонность к матерному слову, но не рабская, а естественная и беспрерывная. На отдыхе я рассказал о «железном воротнике» — что вот из-за этого не стал вникать в жизнь колхоза.
— И что вникать, — сказал я, — машина и производство сами по себе ничего не говорят, а человек в колхозе такой же, как в деревне, нового с ним ничего не произошло.
— И ничего не могло произойти, — ответил Преображенский, — потому что человек, йоб его мать, это глина.
— Вот-вот глина! — сказал я насмешливо.
— А вы не знали? конечно, йоб его мать, глина и больше ничего. Вот как его уй-ли, ну, как это называется, где жгут-то?
— Крематорий.
— Вот, вот, сожгут человека этого, йоб его мать, в крематории и что же…
Он взял щепотку земли.
— Ну, хуй ли в этом?
<На полях:> Будь заяц, мы бы бегали и ничего о себе не знали, а тут все и раскрылось.
Трудно было разгадать, что он этот нигилизм подносил с отчаяния, как скептик наших дней, с тайной верой в иные человеческие отношения, или же это его повседневное убеждение и он сам из этой глины человека лепит свое. Последнее верно, а первое это мое.
Да, в то время, когда кончилась в природе жизнь и как бы лежит вся на виду в открытой могиле, в томительном ожидании всепокрывающего белого снега, даже теплынь, даже солнце ничего не оживляют.
Думаю о Ницше {157}. Вот человек, взявший на себя бремя двух тысячелетий: такую задачу взял на себя этот человек, чтобы все постепенно пережитое человечеством, накопить в себе лично, как одно чувство.
«Немцы» для него значит идеализм или обман.
Психологически я примыкаю к Ницше в двух точках:
1) Помню в юности, как я устанавливал ценность только личного («немцы» — это даром через традицию).
2) «Помоги, Господи, ничего не забыть и ничего не простить»: эта молитва относится к тому, что люди устанавливают свой оптимизм, «немецкий идеализм» на забвении отцов, трагедии и т. п.
<На полях:> 3) Ненавижу своих прозелитов.
Розанов, вникнув в меня, сказал {158}: «Это от Ницше». Конечно, я не знал Ницше, но я был Ницше до Ницше, как были христиане до Христа. Сам же Розанов есть Ницше до Ницше {159}. (Это значит, бросив все, начать это же лично, все взять на проверку с предпосылкой «да» вместо «нет», как нигилисты).
Итак, Ницше — это переоценить все на себе, оторвать человека от традиции и вернуть его к первоисточнику.
Мережковский сказал, что Ницше под конец в своем Дионисе узнал Христа {160}.
Следовательно, и Ницше и Розанов отрицают Христа исторического, церковного.
А что же сам Христос?
У Достоевского «Великий Инквизитор» иронически защищал традицию против «самого» Христа {161}.
Да, все сводится к тому, существует ли творческое начало (Бог) вне меня или же это из меня только.
Принимать «немцев» (традицию) можно лишь в том случае, если она передаст рядом со всякой мерзостью и «спасение наше», и если нет, то, конечно, я <1 нрзб.> что я — Бог и при наличии сил изуродую жизнь свою под Христа: и в конце приду к Христу {162}.
Вот еще: в состоянии Заратустры в сверхчеловеческом {163} и есть именно то, в чем и Ницше и Розанов обвиняют Христа: «да» за счет отрицания рода {164}.
Удовлетворить себя (не впадая в мещанство) можно тем — (не начинать переживать в себе Христа, как Ницше), а признав Его как Спасителя (не начинать, а причаститься), продолжить творчество мира.
Русский опыт. Новая история будет история борьбы фашизма с коммунизмом (Фашист: коммунист: — Хуй ли!).
Коммунизм погибнет не ранее чем будет совершенно разбит «идеализм» всемирного мещанства (фашизм?) и одна сторона (коммунизм) посредством отрицания Бога придет к утверждению, другая, утверждая ложного Бога, придет к его отрицанию.
Цивилизация учит закрывать глаза на трагедию человека, культура причащает. Наш коммунизм есть неприкрашенный безобманный дух человеческо-отрицающей цивилизации (машинной).
Я вижу нечеловеческое «да», которое скрывается за всеми сделанными человеком вещами. Но разные люди могут делать себе из этих вещей сегодня кумиры с тем, чтобы завтра их свергнуть. Но я нахожусь вне и создания кумира и его свержения. Я питаюсь творчеством только цельным, в котором человеку большое участие поручено большим страданием множества и, значит, ему не только нельзя этим гордиться, но даже и отмечать в себе, как личное. Гордиться можно только тем личным, что в человеке нисколько не больше, чем у муравья и работает человек в мире, вне поручения низших его родственников в природе, как нечто отличное от всех, не больше того, что работает муравей, <1 нрзб.> и т. п. Что же касается того настоящего личного, что отличает человека, то смысл этого «личного» состоит в назначении распознать неличное, нечеловеческое в созданных человеком вещах.
<На полях:> Русский фатализм {165}.
27 Октября. Ругались. <Зачеркнуто: с Павловной>. Это всегда, конечно, так унижает, что хочется как-то сразу переменить жизнь, но потом, когда одумаешься, станет совсем уж стыдно. В этот раз никуда я не хотел бежать, менять положение, мне хотелось идти по дороге так долго, пока хватит сил, и потом свернуть в лес, лечь в овраг и постепенно умереть. Мысль эта явилась мне сама собой и вовсе не сейчас после ссоры, она последнее время живет со мной, и с удивлением вычитал я на днях у Ницше, что это — «русский фатализм». Правда, это не совсем самоубийство: я не прекращаю жизнь свою, а только не поддерживаю, потому что устал. Сейчас после домашней ссоры мне казалось особенно легко это сделать, взять и пойти… Когда же стал себе представлять, что лежу в овраге, то вдруг жизнь моя последнего времени именно такой и явилась, и оказалось еще легче и лучше выходит: ведь это же и есть теперь такая жизнь, как если бы я лежал в овраге с ожиданием конца. В чем же дело? Лег и лежи. Не все дождь и холод, будут и радости, потому что, если и немножко меньше будет дождь, и то станет полегче. Вот сахар выдали по 4 кило…
28 Октября. Закончил начатый вчера рассказ «Птичий сон» {166}. Посылаю Феге. Надо позондировать «Огонек», может быть, хоть там напечатают, а то в Сибирь пошлю в «Охотник». Вот до чего дошло! Но, конечно, литературе-то уж нечего бояться, запретить вовсе литературу, значит, запретить половой акт. Долго не протерпишь…
<На полях:> Поэзия управления.
30 Октября. Серые дни с дождями в природе и в обществе тоже открытая могила и тесная очередь к ней. Уныние и отчаяние. Торжество частностей («а я — ничто»). Заняться бы поэзией управления государством (вероятно, разлагается на утопизм, авантюризм и халтуру).