Бремя выбора. Повесть о Владимире Загорском
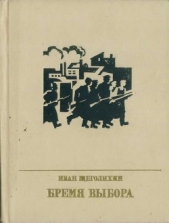
Бремя выбора. Повесть о Владимире Загорском читать книгу онлайн
Автор книги Иван Щеголихин по образованию врач. Печатается с 1954 года. Им опубликованы романы, повести, рассказы как на современную, так и на историческую тему. В серии «Пламенные революционеры» вышла его книга «Слишком доброе сердце» о поэте М. Л. Михайлове. Отличительная особенность произведений И. Щеголихина — динамичный сюжет, напряженность и драматизм повествования, острота постановки морально-этических проблем.
Книга рассказывает о судьбе Владимира Михайловича Загорского, видного деятеля партии большевиков, о его сложном пути революционера — от нижегородского юного бунтаря до убежденного большевика, секретаря Московского комитета РКП (б) в самом трудном для молодой Советской республики 1919 году.
Огромное влияние на духовный облик Загорского оказали описываемые в повести встречи с В. И. Лениным и работа под его руководством. Читатель увидит на страницах книги и таких выдающихся революционеров, как Я. М. Свердлов и Ф. Э. Дзержинский.
Повесть выходит вторым изданием.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Он меня отпускает, милостивый, прогоняет даже!»
— Куда спешить? — сомнамбулически тянул Дан. — На тот свет? На тот свет мы всегда успеем. Почему ты не арестуешь меня, товарищ Денис? Дай команду.
Гриша качнул штыком, посмотрел на Загорского, ожидая не команды, а всего лишь знака.
— Мы изолируем угрозу реальную, а не фикцию. — (Гриша опустил штык). — Ты бессилен, Дан, как и все вы, бывшие и не ставшие.
«Сейчас! Сейчас!.. — ждал Дан, прицеливаясь, примериваясь к винтовке, дрожа от нетерпения. — Проклятье, если бы их там не было, я бы вел себя по-другому».
— «Бывшие и не ставшие», — лихорадочно повторил Дан. — Сдаете Москву, а потом? Не допускаешь иного стечения обстоятельств?
— Москву не сдадим. А обстоятельства диктуются.
— Кем? Вами? — обретая прежнюю агрессивность, повысил голос Дан. — Значит, не арестуешь?
— Нет.
— Почему? — все больше распалялся Дан, сам себя не понимая, не этого же хотел, другого. — На меня есть приговор трибунала.
— Ты приговорен историей.
— «А ты бомбой!» — хотелось заорать Дану, бросить в лицо, плюнуть взрывом немедля: вот он, мой приговор!
— Ладно, иди, — злорадно сказал Дан, — ты заслушал свое преимущество. — И сунул руки в карманы медленным, угрожающим жестом. — Каждому по его делам.
— Владимир Михайлович! — спертым голосом вскрикнул Гриша и клацнул затвором, вогнав патрон. У него искрошилась выдержка терпеть этого если не контру, то наверняка психа.
Дан попятился, растопырив локти, не вынимая рук.
Загорский жестом остановил Гришу и посмотрел па Дана пристально. «Он еще может гадить, мелко пакостить, но разве па это все они, бывшие, замахивались когда-то?» Взгляд его словно говорил Дану: даже если у тебя оружие, я не унижусь бить лежачего. Коротким жестом он позвал Гришу вперед, и они пошли, шагая широко и в ногу, пошли, не оглядываясь — мало ли тут всяких встречных.
— Быстрее, — сказал Дан негромко. — Ну, быстрее же! — взмолился он.
Они не слышали, шли себе, над плечом Гриши покачивался штык.
«Я его отпустил жить, — подумал Загорский. — Но такой жизни не позавидуешь».
«Я его отпустил умереть, — подумал Дан, — на посту. Но чему завидовать?!»
Вот и весь разговор, комканный и рваный, как и вся его жизнь, бывшая и не ставшая. Вспомнил Берту и браунинг, последнее, что осталось…
«Раз-два», «раз-два», — удалялись шаги, стучали сапоги, будто шел один человек.
«Стой, время, стой! Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»
Дан вырвал кулаки из карманов, затряс драными рукавами, его заколотило, он закричал:
— Быстре-е-ей! Бегом марш! Опоздаешь умереть, большевик, бего-ом!
А они шли, так же мерно и в ногу, не обернулись и не ускорили шага. Великодушие демонстрировали? А голос Дана сокрушал тишину в переулке:
— Са-аша! Со-оболев! Подожди-ите! Еще один смерти жаждет, суньте ему в пасть самоуверенную!
Вдруг трубный, дикий звук под ногами:
— Мя-ау! — Дан отскочил. Только сейчас понял: нет у него голоса, он не кричал, не орал, а шипел, сипел «кис-с», «кс-с», только и смог привлечь своим зовом бесприютного кота, хвост трубой, тощая спина дугой, весь каркасный, проволочный. Дан остервенело, с наслаждением пнул кота из всей силы, и тот кучно, тряпкой отлетел на три сажени, но не шмякнулся, а сразу на четыре ноги. И юркнул, растворился в стене.
««Но не разбился, а рассмеялся». Мне бы так — на все четыре ноги…»
Но у человека их только две. Шатко,
Стань па четвереньки, Дан. Упрись в землю всеми четырьмя, как паши предки. И будет тебе тогда и земля, и воля: как я хочу.
Но чем он тогда бросит бомбу?
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Черноусый командир расчесал усы янтарным гребешком, поднялся в сторону выхода впереди Ани, энергично размялся после долгого сидения, поднял и опустил одно плечо, потом так же другое, раздвинул — сдвинул плиты лопаток под тесной гимнастеркой. А руки держал неподвижно, согнув в локтях, вел перед собой сокровище — беременную жену, заслоняя ее всю, Аня ее не видела, а хотелось посмотреть еще разок, такая она пухлогубая, милая такая лапонька, какого она роста?
Слитный говор о разном, не спеша, переступая с ноги на ногу, все потянулись к выходу. Удивительно, до чего похожие лица, будто одна большая семья. И только затылки разные, стриженные и наспех завитые, короткие и длинные, каштановые, черные, рыжие. Тяжелые створы двери — внутрь покачиваются, то один, то другой их придерживает, чтобы не закрылись, передает свою услугу задним. Шли потоком, без давки, едва касаясь один другого.
В открытые двери потянуло запахом лучины, теплый, с детства знакомый дымок Аня чувствует за версту. Гриша ставит самовар внизу, будет угощать чаем после собрания.
На сцену из-за кулис вышел Владимир Михайлович, все в порядке. Аня приветственно ему помахала, он заметил, улыбнулся, покивал ей, будто давно не виделись, подошел к Мясникову, что-то сказал ему, как вы тут без меня или что-нибудь похожее, бросил папку на стол, а как будто от этого его движения вдруг звонко треснуло, зазвенело, сыплясь, стекло балкона, что-то тяжелое бухнуло в деревянный пол. Говор будто срезало, и в тишине зашипело, ровный шум, будто примус горит, запахло гарью, химической, мерзкой, шествие вмиг порывом к двери, как па магнит гвозди, тяжелые створы ударили в притолоку, захлопнулись — ловушка, взметнулись руки,
Пытаясь открыть, шум, крики: «Бомба!» Аня видела перед собой одни затылки, плотно вмятые в тело толпы. Что случилось? Какая бомба?! Где, у нас? Как изменились, исказились лица, шум страха в зале, мельтешение рук у двери, беспомощное и жалкое, и все это у нас, в МК!
— Спокойно, товарищи! — зычно крикнул Владимир Михайлович, покрывая шум. — Спокойно! Сейчас мы все выясним.
Толпа на миг стихла, ослабила давку, створы на-конец разошлись, груда передних сразу вывалилась в проем.
«Двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь…» — слышался Ане счет, или это стучало, гулко тикало в ее ушах сердце?
Загорский сбежал со сцены, раздвигая руками людей, будто плывя водовороту наперекор, и — к змеиному шипению: он здесь главный, ему надо обезопасить людей в его родных стенах, где ему с утра до ночи приходилось успокаивать и призывать, порицать и хвалить, внушать и растить веру, а сейчас вот заминка, недогляд, промах, надо схватить и выбросить. Аня бросилась к нему, тоже крича, винясь перед всеми, ближе к нему — вместе наступить на горло шипению, увидела его лицо, бледное, решительное.
«Тридцать восемь, тридцать девять, сорок…»
Вот он, совсем рядом его глаза, он нагнулся — и тут как будто Земля вздохнула, легко колыхнув пол и стены.
Вздыбило кровлю, снесло потолок, задняя стена здания рухнула на ограду и в сад, осколки кирпича, мебели, клочья одежды, ножки стульев — россыпью в Чернышевский переулок. В ближних домах повылетали стекла, повалились трубы.
Сразу после грохота, гула, треска, в страшной краткой тишине под шорох осыпи раздался крик новорожденного. Послышались стоны и зовы и тут же первые голоса команды. Со стороны Моссовета гулкий топот множества ног — весь пленум бежал на помощь.
Гудки машин, вой сирен, звон пожарных повозок.
Первым рейсом карета скорой помощи вместе с ранеными увезла молодую мать с младенцем. Кем он будет, рожденный взрывом?
Усатый командир, весь в серой пыли, без фуражки, в струпьях серой крови по лицу, остался вызволять раненных.
Контуженный, оглохший Ярославский держался рукой за голову и пытался растаскать обломки. Ранены Мясников, Ольминский, Пельше, редактор «Известий» Стеклов, у многих переломы рук, ног, почти у всех контузия, ушибы, ссадины.
Мелькали пожарники, врачи, чекисты. Дымная пыль руин клубилась в свете автомобильных фар, факелов и лучин.
Извлекали из-под обломков тела, щупали пульс, отирали лица от пыли и крови платком, рукавом, шинелью, смотрели, кто это. Обезображенных не могли узнать, искали мандаты.


























