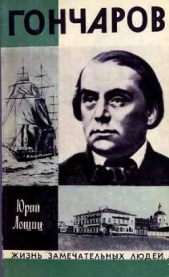Гончаров
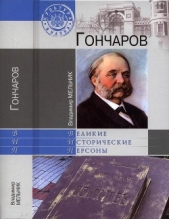
Гончаров читать книгу онлайн
Литературная судьба Ивана Александровича Гончарова с самого начала складывалась счастливо. Со дня выхода его первого романа «Обыкновенная история» русской читающей публике стало ясно, что в литературу пришёл писатель-классик. Всё говорило за то, что в ряду первых имён русской литературы появилась новая звезда. С тех пор солидная литературная репутация Гончарова никогда не подвергалась ни малейшему сомнению. Более того, после выхода «Обломова» и «Обрыва» стало понятно, что Гончаров стал ещё и родоначальником русского классического социально-психологического романа.
Книга доктора филологических наук В. И. Мельника рассказывает о жизни и творческой судьбе выдающегося русского писателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Роман «Обрыв» резко поднял тираж журнала «Вестник Европы», в котором был напечатан. Редактор журнала М. М. Стасюлевич писал А. К. Толстому 10 мая 1869 года: «О романе Ивана Александровича ходят самые разнообразные слухи, но все же его читают и многие читают. Во всяком случае только им можно объяснить страшный успех журнала: в прошедшем году за весь год у меня набралось 3700 подписчиков, а нынче, 15 апреля, я переступил журнальные геркулесовы столпы, то есть 5000, а к
1 мая имел 5200». «Обрыв» читали с затаённым дыханием, передавали из рук в руки, делали о нём записи в личных дневниках. Публика наградила автора заслуженным вниманием, и Гончаров время от времени ощущал на своей голове венец настоящей славы. В мае 1869 года он пишет своей знакомой Софье Никитенко из Берлина: ««Обрыв» дошёл и сюда… На самой границе я по поводу его встретил самый радушный приём и проводы. Директор таможни русской бросился мне в объятия, и все члены её окружили меня, благодаря за удовольствие! Я заикнулся о том, что на обратном пути желал бы доехать также отдельно, покойно, один в особом помещении. «Что хотите, что хотите, — сказали они, — только дайте знать, когда будете возвращаться». И в Петербурге начальник и помощник станции были любезны и посадили меня в особый уголок, а на окне написали мою фамилию, с надписью занято. Всё это глубоко трогает меня». Образы Бабушки, Веры и Марфеньки, написанные с необыкновенной любовью, сразу стали нарицательными. В канун 50-летия писательского труда Гончарова его посетила делегация женщин, которая от имени всех женщин России подарила ему часы, украшенные бронзовыми статуэтками Веры и Марфеньки. Роман должен был принести автору очередной триумф. Однако изменилась ситуация в обществе и журналистике. Почти все ведущие журналы к тому времени занимали радикальные позиции и потому остро критически восприняли негативно очерченный Гончаровым образ нигилиста Волохова. В июньском номере журнала «Отечественные записки» за 1869 год вышла статья М. Е. Салтыкова-Щедрина «Уличная философия», в которой известный писатель дал резко отрицательный отзыв о романе и упрекал Гончарова в непонимании передовых устремлений молодого поколения. Умён, очень умён был великий сатирик, а всё-таки ошибся, ожидая для России блага от молодых нигилистов. Революционный демократ Н. Шелгунов также дал разгромный отзыв о романе в статье «Талантливая бесталанность». Оба критика упрекали Гончарова в карикатурном изображении Марка Волохова. Собственно, это была не критика, а повод «побузить».
В письме к М. М. Стасюлевичу романист писал: «Сколько я слышу, нападают на меня за Волохова, что он — клевета на молодое поколение, что такого лица нет, что оно сочинённое. Тогда за что же сердиться? Сказать бы, что это выдуманная, фальшивая личность — и обратиться к другим лицам романа и решить, верны ли они, — и сделать анализ им (что и сделал бы Белинский). Нет, они выходят из себя за Волохова, как будто всё дело в романе в нём!» И всё-таки по прошествии некоторого времени нашёлся один мудрый писатель, который хотя и сочувствовал пресловутому «молодому поколению», но оказался шире узкопартийных тенденций и выразил уже спокойный, отстоявшийся взгляд на творчество Гончарова и, в частности, на его «Обрыв»: «Волохов и всё, что с ним связано, забудется, как забудется гоголевская «Переписка», а над старым раздраженьем и старыми спорами будут долго выситься созданные им фигуры». Так написал Владимир Галактионович Короленко в статье «И. А. Гончаров и «молодое поколение»». [236]
Чрезвычайно высоко оценил роман А. К. Толстой: он, как и сам Гончаров, почувствовал сговор «передовых» журналов против «Обрыва», [237] тем более что критическая статья о романе появилась даже в… «Вестнике Европы», который только что закончил публиковать гончаровское произведение. Это было что-то новое, неприятное и неприличное, ранее не встречавшееся в русской журналистике. А. Толстой не удержался от того, чтобы не высказать Стасюлевичу своих чувств: «В Вашем последнем (ноябрьском. — В. М.) № есть статья Вашего шурина, г-на Утина, о спорах в нашей литературе. При всём моём уважении к его уму, я не могу, с моею откровенностью, не заметить, что он оказывает странную услугу молодому поколению, признавая фигуру Марка его представителем в романе… Ведь это… называется на воре шапка горит!» Как мог, Толстой старался утешить своего знакомца. В 1870 году он пишет стихотворение «И. А. Гончарову»:
Гончарову и вправду ничего не оставалось, как углубиться и уйти в себя: критики писали как будто не о его романе, а каком-то совсем другом произведении. Наш мыслитель В. Розанов заметил по этому поводу: «Если перечитать все критические отзывы, явившиеся… по поводу «Обрыва», и все разборы какого-нибудь современного ему и уже давно забытого произведения, то можно видеть, насколько второе одобрялось более… нежели роман Гончарова. Причина этой враждебности заключалась здесь в том, что не будь этих дарований (типа Гончарова. — В. М.), текущая критика могла бы ещё колебаться в сознании своей ненужности: слабостью всей литературы она могла бы оправдывать свою слабость… Но когда в литературе существовали художественные дарования и она не умела связать о них нескольких значущих слов; когда общество зачитывалось их произведениями, несмотря на злобное отношение к ним критики, а одобряемых ею романов и повестей никто не читал, — критике невозможно было не почувствовать всей бесплодности своего существования». [238] Тем не менее спешно и весьма тенденциозно написанные статьи о романе больно ранили Гончарова. И именно потому, что в «Обрыв» были заложены самые затаенные, самые глубокие идеи романиста. Ни в одном из своих романов Гончаров не пытался столь концентрированно выразить свое миропонимание, его христианскую основу. Главное — роман изображал настоящую, пронизанную теплом и светом родину, изображал героев, которые, являясь обыкновенными людьми, в то же время несли в себе черты высочайшей духовности. Истоки этого В. В. Розанов видел в «Капитанской дочке» Пушкина. [239] Но «передовая» журналистика даже не заметила в романе главного, не увидела любви, которую вложил романист в описание русской женщины, русской провинции, не увидела его тревоги за Россию и той высоты идеала, с которой смотрит Гончаров на русскую жизнь. Её интересовала лишь узкопартийная солидарность с нигилистом, негативно поданным в романе. Им не с руки было признавать полную художественную объективность этого образа. А ведь до сих пор, когда говорят о нигилистах в русской литературе XIX века, на ум приходит прежде всего
Марк Волохов — рельефно и, кстати сказать, совсем не без любви изображённая фигура поддавшегося очередной российской иллюзии молодого человека. Неприятие «Обрыва» стало для писателя не рядовым литературным фактом, а личной драмой. А между тем и его роман предрекал драму всей России. И писатель оказался прав: очередной исторический «обрыв» старая Россия не преодолела.
Все три иллюзии — романтический самообман, эстетизированная ленивая безответственность и разрушительный нигилизм — связаны в сознании Гончарова между собою. Это «детская болезнь» национального духа, недостаток «взрослости», ответственности. Писатель в своих романах искал этой болезни противоядие. С одной стороны, он изображал людей систематического труда и взрослой ответственности за свои поступки (Пётр Адуев, Штольц, Тушин). Но и в этих людях он увидел и показал отпечатки всё той же болезни, ибо в системном труде кроется лишь внешнее спасение. В этих людях остаётся всё та же детская безответственность: они боятся задавать себе простые вопросы о конечном смысле своей жизни и деятельности и, таким образом, довольствуются иллюзией дела. С другой стороны, Гончаров предлагает свой личный рецепт: это возрастание человека в духе, от Ад-уевых до Рай-ского. Это постоянная напряжённая работа над собой, прислушивание к себе, какое ощущал в себе Райский, который лишь старался помогать той «работе духа», которая шла в нём, независимо от него самого. Писатель, конечно, вёл речь о божественной природе человека, о работе Святого Духа в нём. Вот чем человек отличается от животного! Гончаров поставил перед собой колоссальную художественную задачу: напомнить человеку о том, что он создан «по образу и подобию Божиему». Он как будто берёт своего читателя за руку и пытается вместе с ним взойти на высоты духа. Это был по-своему уникальный художественый эксперимент. На него Гончаров положил всю свою сознательную творческую жизнь. Но большое видится на расстоянии. Его колоссальный замысел оказался не понят во всей своей глубине не только его идеологическими противниками-однодневками, которые могли судить о художественном произведении лишь на основании узкопартийной логики, но и вполне сочувствующими людьми. Были увидены и оценены лишь отдельные образы и фрагменты огромного художественного полотна, широкие рамки и значение которого будет всё более и более прояснять время.