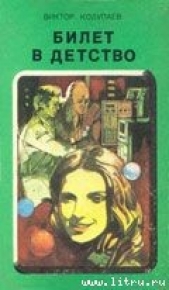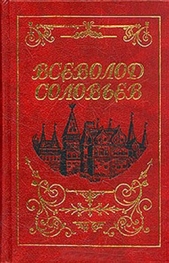Воспоминания о людях моего времени
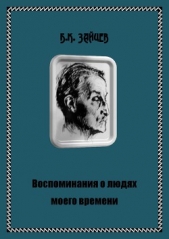
Воспоминания о людях моего времени читать книгу онлайн
Автор не претендует на полноту, а просто делится тем, что осталось в памяти, душе, преломившись чрез призму прожитых лет.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Эти всматривания касаются: и Евангелистов, и Крестителя, и Богоматери, — преимущественно же Самого Иисуса. Кроме Евангелия, привлекает автор огромный материал «Аграф» («не записанного слова»), Церковью не принятого за достоверное, но откуда, по мнению Мережковского, можно извлечь драгоценные черты, слова, факты. Не боится он и Апокрифов. И идет еще дальше: о многом, чего не знаем мы в Иисусовой жизни, пишет сам «апокрифы», оговариваясь примерно так: да, это мой домысел, но рожденный из моего вживания и из моей любви. Пишу так, как подсказывает чутье. Если смело, то отвечаю сам. Но ведет меня любовь. Отсюда: Рождество Христово, Иисус ребенком с козами на «Злачных пажитях горных лугов Галилеи», Искушение Христа и др. «Назаретские будни» — мальчик Иисус в школе. Дева Мария, плотник Иосиф — бедная и святая жизнь, в которой Спаситель возрастает.
Мережковский не был в Палестине. Пейзаж взят им условно и «вообразительно». Я считаю, что очень удачно по тону: Иисус Пастушок, например, в одиноких горах с козами — прозрачностью, чистотой краски напоминает ранне-итальянское: Симоне Мартини или сиенцев. Рождение в яслях — Беато Анджелико. И своеобразный, текуче-мрачный тон в Искушении…
Вообще, надо сказать, что вся книга написана словом возбужденным, легким и патетическим. Нечто текучее, переливчатое есть в нем — по временам очень пронзительное. Вот уж никак не покойное повествование! Да и как мог бы покойно и удобно повествовать автор о том, что считает он столь великим и таинственным — неисследимым, что всю жизнь надо читать и «сколько ни читай, все кажется, не дочитал, или что-то забыл, чего-то не понял».
В Мережковском нет детской простоты, такого безответственного отдания себя, как у жен мироносиц, или у «верующих баб» Оптинских старцев. Всякому ясно, что душа эта сложная, раздираемая, вопрошающая, непокорная и глубоко-своеобразная. Без Христа жить она больше уже не может, но, припадая к Нему, волнуется, пытает (иногда, может быть, и сомневается).
— Какой Ты был? Что думал тогда-то?? Что делал в такие-то часы Твоей жизни?
Некоторым (глубоко церковным) людям несколько покажется дерзновенной мечта Мережковского, упорство его, смелость, с которой он порою приписывает Иисусу чувства… — о которых просто как бы догадывается. Смелость, конечно, велика. Но источник ее глубок. Ее источник высоко — серьезен, значителен. Если бы Мережковский праздно разглагольствовал, было бы плохо, даже кощунственно. Этого вовсе нет.
— Я люблю Тебя, я Тебе поклоняюсь и благоговею перед Тобой, но я хочу все о Тебе знать, — вот что мог бы сказать Мережковский.
Может быть, это лучше равнодушия или привычки? Казенного холода?
Изобразить Христа невозможно — этой задачи не ставил себе Мережковский. Читателю кажется, что задача: проникнуть за видимую часть спектра, туда, где инфракрасные лучи. Тоже немалое намерение! Выполнено оно или нет в замечательном этом произведении?
На мой взгляд — да. Не в том смысле, чтобы в заглядывании «туда» был Мережковский всегда прав, а в том, что дается ощущение тайного: сложнее, противоречивей как будто оказывается все — и человечней. Христос не «закованный в ризы», а более свой, наш, человеческим взором — бедным и малым — видимый, человеческим ухом слышимый.
Человеку, в догадках своих, свойственно (и простительно) ошибаться. Никогда он не может разглядеть и расслышать не только всего, но и большого. И всегда, если даже «краем глаза» или «краем сердца», почувствует — и то хорошо.
«Иисус Неизвестный» волнует читающего, как волновал он писавшего. Как составлял часть жизни автора, так частью жизни становится и для читателя. Богослов, историк Церкви, христианский философ могут вести с Мережковским свою беседу. Просто читатель прочтет с увлечением своеобразнейшую книгу, написанную с некою исступленностью, острую, смелую — в центре которой величайшее Солнце мира.
ПАМЯТИ МЕРЕЖКОВСКОГО
(100 лет)
Время идет, время проходит. Сто лет было бы теперь Дмитрию Сергеевичу!
Когда юношей встретился я с ним впервые — через книгу, был он вовсе не стар, но писатель уже известный. Книги эти: «Вечные спутники», «Толстой и Достоевский». Первая — литературные очерки, все о «настоящих», действительно, спутники вечные. Сервантес, Марк Аврелий, Гете, Ибсен, Флобер мой драгоценный, великий Достоевский и еще другие. Все это — его раннее писание. Написано блестяще, сухо, сдержанно и очень по-другому, чем писали тогдашние писатели в толстых журналах. (Провинции никогда не было в Мережковском. Один из первых проветрил он русские восьмидесятые-девяностые годы, да и Михайловский стал историей.) Проветривание связано было с тем, что Мережковский внутренне воспитывался уже и на Европе — в образе ее истинной культуры, — а доморощенности в нем никакой не было.
Думаю, что книгой, резко повернувшей понимание двух наших великанов, был огромный труд «Толстой и Достоевский». Вот за него останусь навсегда и особо благодарен покойному, столь одинокому, хоть и знаменитому Дмитрию Сергеевичу.
Я был студентом, начинающим писателем московским с Остоженки и Арбата, когда довелось прочесть эту книгу. Оказалась она для меня неким событием — ее чтение было частью моей жизни. (И как Бога благодарю, что имел возможность часами уходить в то, что привлекало ум и душу!)
Не перечитывал с тех пор этого «Толстого и Достоевского», да несколько и боюсь перечитывать: так много времени ушло, так изменился сам, так изменилась жизнь, что и не хочется, чтоб изменилось впечатление. Но вот оно осталось. Многих, не меня одного, эта книга сдвинула. Не то чтобы фигуры действующих лиц выросли — они и так были огромны, без Мережковского. Но он передвинул их по-новому, осветил, оценил, получилось ярче и еще убедительней.
Некая схема в писании его и тогда чувствовалась: «Тайновидец плоти», «Тайновидец духа» — Мережковский любил такие вещи. «Бездна вверху, бездна внизу» — все же противопоставление что-то давало, даже и очень яркое. Обе фигуры получили особый оттенок (но и ярлык, конечно).
Сколько помню, Достоевского выдвигал он с большим созвучием и сочувствием внутренним, чем Толстого. Оно и понятно. Как бы ни относиться к духовности Мережковского, начала природного, земляного и плотского в нем уж очень мало, пожалуй, совсем не было. Оба они — и он, и Зинаида Николаевна Гиппиус так и прошли чрез всю жизнь особыми существами, полутенями, полу-призраками (в литературе. В жизни бывали, он особенно, иногда очень «жизненными»).
Все же трудно представить себе Мережковского отцом семейства, Гиппиус матерью.
Личная встреча произошла позже, но тоже в начале века. Мы ездили иногда с женой из Москвы, где жили, в Петербург, по литературным делам. Друг наш, Георгий Чулков, основатель «мистического анархизма», вводил нас в петербургский литературный круг самоновейшей, сильно выдвигавшейся на смену прежней интеллигенции. Чулков редактировал «Вопросы жизни», где Булгаков и Бердяев особенно выделялись (журнал явился на смену «Нового пути» Мережковского, но Мережковский и тут сотрудничал).
Чулков жил в огромной квартире журнала, там же и Ремизов с женой — считался он «секретарем редакции». (Воображаю, что за секретарь был Алексей Михайлович!) С этим секретарем, и вернее с крошечной дочерью его Наташей, связано первое зрительное впечатление от Мережковского и знакомство с ним.
Вхожу в комнату Ремизовых — комната большая, большое кресло, в нем маленький худенький человек, темноволосый, с большими умными глазами, глубоко засел. А на коленях у него ребенок, девочка, едва не грудная, он довольно ласково покачивает ее на своей тощей интеллигентской ножке, чуть ли не мурлыкает над ней. Картина! Мережковский и колыбельная песенка. Верно, раз за всю жизнь с ним такое произошло. (Только недоставало, чтобы он пеленки Наташе менял.)