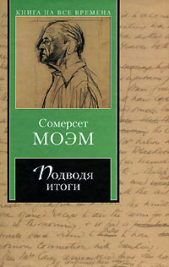Сомерсет Моэм
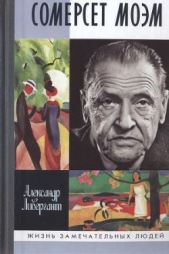
Сомерсет Моэм читать книгу онлайн
Герой этой книги был самым читаемым и одним из самых преуспевающих английских писателей XX века. Притом что жизнь он вел вполне упорядоченную и даже размеренную, она оказалась довольно яркой и насыщенной, в ней было всего очень много — много друзей и знакомых, много любовных историй, много путешествий, много творчества. Про таких, как он, говорят — self-made man — человек, который сделал себя сам. Прежде, чем стать писателем, Моэм работал врачом, участвовал в Первой мировой войне, а снискав славу на литературном поприще, попробовал себя в роли резидента британской разведки, в этом качестве ему даже довелось поработать в России в 1917 году. Книги и пьесы Сомерсета Моэма очень популярны и в наши дни. В Приложении к биографии талантливого английского писателя и драматурга представлены путевые очерки Моэма, еще не публиковавшиеся на русском языке и переведенные автором книги.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В 1956 году Моэм едет в Париж на 500-й спектакль «Обожаемой Джулии» по роману «Театр», и зрители, стоя, ему рукоплещут. А в 1957-м проходит слух, что Моэм выдвинут одним из кандидатов на Нобелевскую премию по литературе; слух, однако, так слухом и остался: впоследствии выяснилось, что кандидатура автора «Дождя» и «Пирогов и пива» Нобелевским комитетом даже не рассматривалась.
Случаются и курьезы. Цейлонская «Дейли ньюс» заказывает Моэму двенадцать статей за 50 фунтов, не вполне, видимо, понимая, масштабы гонораров писателя. Японский театр хочет поставить «Священное пламя» — предлагаемая цена тоже, прямо скажем, не головокружительна — десять долларов за один спектакль. Какой-то француз предлагает перевести «Землю обетованную» на эсперанто. Ролан Пети хочет поставить балет по «Дождю». Журнал «Ледис хоум джорнэл» готов заплатить целых пять долларов за право процитировать всего одну фразу из книги «Подводя итоги».
Без «ложек дегтя» не обходится и здесь. В газетах нередко печатаются в адрес Моэма оскорбительные письма, где его обвиняют в пустопорожности и цинизме, ему откровенно завидуют, не могут простить успеха у читателя, и прежде всего, — в долларовом исчислении. «Сомерсет Моэм нажил сумасшедшие деньги благодаря своему беспрецедентному профессиональному цинизму», — говорится в письме в «Ивнинг стандард» от 27 января 1954 года — своеобразный подарок писателю к юбилею. Дэвид Герберт Лоуренс, если читатель еще не забыл, писал примерно то же самое, что и этот безвестный завистник.
Восьмидесятилетний юбилей вообще прошел не вполне гладко, и не только из-за неудавшейся речи юбиляра в «Гаррике». Многие известные писатели, в том числе и близкие друзья, участвовать в юбилейном сборнике, который планировал издать журналист и прозаик Джослин Брук, под разными предлогами отказываются. Одни (Ивлин Во, Ноэл Коуорд, Элизабет Боуэн) ссылаются на неотложные дела, другие (Энгус Уилсон, Джойс Кэри) — на то, что Моэма толком не читали. Вместо давно лелеемого Ордена за заслуги, на который Моэм вправе был рассчитывать в связи со «славным» восьмидесятилетием, он удостаивается всего-навсего медали «Кавалер чести». На медали, которую королева в день своего рождения обычно вручает отставным военным и государственным чиновникам средней руки, выбито «Верен делу с чистой совестью». Насчет чистой совести сказать сложно, но вот своему делу — литературе — Моэм и в самом деле был верен всю свою долгую жизнь.
Моэму словно лишний раз не дают забыть (вспоминаем Литтона Стрэчи): отделениеу него хоть и первое, но вот классом он «путешествует» вторым.
Кстати, о путешествиях. В 1950-е (и даже в 1960-е) годы Моэм передвигается по миру по-прежнему довольно много, хотя, конечно, гораздо меньше, чем раньше. И не так далеко, как раньше (Япония — исключение); в основном это Европа, один-два раза — Америка. Многие поездки связаны теперь с лечением: грязевые ванны в Италии, операция на грыже в Швейцарии. Но лечение не отменяет общего, вполне благополучного течения в высшей степени благоустроенного, размеренного существования писателя. Фасад, внешняя сторона заключительных лет жизни Моэма, как мы убедились, вполне, за редкими исключениями, благополучна, а вот внутренняя, известная, по существу, одному Алану Серлу, оптимизма не внушает.
О неадекватности, о прискорбных и необратимых изменениях в психике стареющего писателя-путешественника свидетельствует забавный случай, описанный женой Гэрсона Кэнина Рут. По пути из Дувра во Францию Рут — это было в середине 1950-х — продемонстрировала Моэму, возвращавшемуся привычным путем из Лондона на Лазурный Берег, разные купюры у себя в кошельке: американские, французские, английские, даже итальянские.
Моэм (Серлу): Покажи и ты им наши деньги.
Серл: Вы уверены?
Моэм: Делай, что тебе говорят.
Алан Серл открывает чемодан, доверху набитый стодолларовыми купюрами.
Рут: Но ведь возить с собой столько денег небезопасно.
Моэм ( ласково поглаживая долларовые бумажки): Не то слово, опасно, и очень. Но с тех пор, как в 1940 году пала Франция и я остался без денег, я всегда вожу с собой наличные.
В чемодане, добавляла Рут Кэнин, рассказывая эту историю, лежало не меньше 100 тысяч долларов.
Примеров паранойи у восьмидесятилетнего писателя можно привести множество, и куда менее забавных. Подозрительность сочетается у Моэма со страхом, что его обкрадут, обманут, выгонят из дома, засудят. С крайней, без малейшего повода раздражительностью, тоской, с неожиданными перепадами настроения. При этом писатель до последнего года жизни находится в приличной физической форме, много курит, выпивает, по нескольку раз на дню плавает в бассейне. Физическая форма у него вполне приличная, а вот «литературная» не ахти: «Писать мне больше не хочется. В голове нет ни замыслов, ни сюжетов, ни слов. Я давно уже перенес на бумагу все, что у меня было, и отложил перо в сторону» [104]. Нарастающая деменция, впрочем, порой отступает: Моэм уже ничего не пишет, но может вдруг изречь нечто в высшей степени разумное, глубокомысленное, остроумное — как встарь.
Такое, впрочем, бывает не часто. В основном же он малоадекватен, груб, резок, неуправляем, хамит гостям, которых в «Мавританке» в конце 1950-х стало гораздо меньше, чем раньше, — теперь Моэм легко расстается со старыми друзьями, списывает их со счета. Как, впрочем, и они его. Гостивший на вилле режиссер Сэм Берман хотел однажды позвать своего друга на ленч, но прежде неизменно корректный и исключительно гостеприимный Моэм отрезал: «Вам-то это будет приятно! А обо мне вы подумали? Вы уверены, что это будет приятно мне!» В 1952 году, когда Лиза в очередной раз забеременела (отношения отца с дочерью были тогда еще безоблачными), Моэм пишет ей: «Пускай это и не мое дело, но рискну высказать мнение, что каждый год рожать по ребенку не вполне разумно. По-моему, четверо детей должны были удовлетворить, наконец, твои материнские инстинкты». Может после объятий и рукопожатий начать вдруг непристойно шутить и ругаться последними словами и, тыча пальцем в Серла, спросить: «Кто этот негодяй? Не давайте ему обижать меня». Поносит — впрочем, не только других, но и самого себя. Называет себя «ужасным, гадким человеком», жалуется, что его все возненавидели.
Днем дремлет, ночью же не спит, встает в два-три часа ночи, заходит к Серлу, бродит по его комнате, точно привидение, курит, бормочет что-то невнятное. Может — и это тоже среди ночи — начать делиться со своим секретарем далеко идущими творческими планами, всевозможными идеями, нередко совершенно завиральными; жаловаться, что после смерти у него все отберут. Может средь бела дня уйти из дома, и его приходится искать по всему мысу. Или где-нибудь спрячется, или пойдет, полураздетый, в шлепанцах, по шоссе навстречу машинам. Однажды спрятался от Серла на вокзале в Веве по пути на Лазурный Берег и не был бы найден, если бы какая-то сердобольная дама не сказала Серлу, что в зале ожидания за буфетной стойкой «притаился милый пожилой джентльмен, который уверяет, что он — Сомерсет Моэм». Может за обедом опрокинуть (и не случайно, а нарочно) тарелку с едой на пол; однажды на ужине с Фриром в солидном «Отель де Пари» в Монте-Карло ни с того ни с сего стал кричать: «Фрир, вы должны немедленно увести меня с этого распроклятого ужина!» Может не узнать старого друга; в ресторане по случаю своего девяностолетия заявил Годфриду Уинну: «Добрый вечер, вы что, приятель Алана?» Когда же Уинн показал ему программку «Отелло», поставленного в лондонском Национальном театре, задумчиво сказал: «Что-то не припомню, когда я написал эту пьесу…» Мог вдруг впасть в бешенство, в глазах тогда появлялся странный болезненный блеск, он начинал сквернословить и через слово, словно кому-то угрожая, повторять: «Я им покажу! Они у меня попляшут!»
Или, напротив, жаловался на жизнь, принимался плакать либо молча целыми днями сидел, вперившись в экран телевизора, вечером же на пару с Серлом бестрепетно сжигал свой архив. Кэнин вспоминал, как Моэм и Серл в 1958 году сидели у камина и с макабрической улыбкой, извлекая из коробок письма, документы, наброски, черновики, фотографии, жгли все подряд. Прежде чем передать ворох порой бесценных бумаг Серлу, Моэм бегло их просматривал, почти все бумаги отдавал секретарю, тот отправлял их в огонь, меж тем как писатель, глядя на горящие черновики и письма, философствовал вслух: «Вот так исчезает в дыму история современной литературы!» Когда однажды Кэнин «вступился» за какой-то моэмовский черновик, сказав: «Вы сами не сознаете, что следует уничтожить, а что оставить», Моэм пришел в ярость и грубо его осадил: «Не ваше дело». И, чтобы поставить друга на место, а заодно его подразнить, сообщил, что на днях обнаружил свою непоставленную и не изданную четырехактную пьесу. «Я ведь не сразу ее сжег, верно, Алан? — принялся ерничать он. — Я ее отложил, прочел перед сном в постели. Отличная пьеска! Хохотал до колик. Ну а на следующий день мы ее все-таки сожгли».