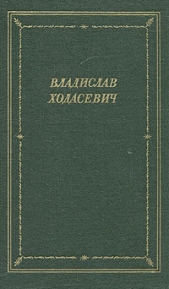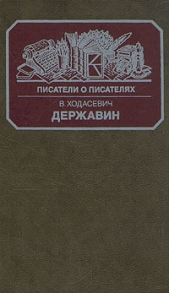Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий
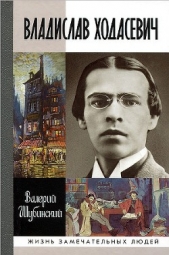
Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий читать книгу онлайн
Поэзия Владислава Ходасевича (1886–1939) — одна из бесспорных вершин XX века. Как всякий большой поэт, автор ее сложен и противоречив. Трагическая устремленность к инобытию, полное гордыни стремление «выпорхнуть туда, за синеву» — и горькая привязанность к бедным вещам и чувствам земной юдоли, аттическая ясность мысли, выверенность лирического чувства, отчетливость зрения. Казавшийся современникам почти архаистом, через полвека после ухода он был прочитан как новатор. Жестко язвительный в быту, сам был, как многие поэты, болезненно уязвим. Принявший революцию, позднее оказался в лагере ее противников. Мастер жизнеописания и литературного портрета, автор знаменитой книги «Державин» и не менее знаменитого «Некрополя», где увековечены писатели-современники, сторонник биографического метода в пушкинистике, сам Ходасевич долгое время не удостаивался биографии. Валерий Шубинский, поэт, критик, историк литературы, автор биографий Ломоносова, Гумилёва, Хармса, представляет на суд читателей первую попытку полного жизнеописания Владислава Ходасевича. Как всякая первая попытка, книга неизбежно вызовет не только интерес, но и споры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Можно лишь согласиться с Ириной Сурат: формулировка Ходасевича напоминает знаменитую ленинскую речь на третьем съезде комсомола. И конечно, интеллигентские надежды на просвещение, как и вера в то, что Пушкин «за революцию», «против неправого общественного строя», — наивны. Впрочем, статья и писалась (в Коктебеле, в июне) для массового журнала «Народоправство», издававшегося при Временном комитете Государственной думы и редактировавшегося Георгием Чулковым. Ходасевичу предлагали должность ответственного секретаря этого издания, он согласился, но уже в августе у него произошла с Чулковым размолвка, положившая сотрудничеству в «Народоправстве» конец.
По всей вероятности, размолвка (временная) касалась политики, в частности, отношения к большевизму. Ходасевич принадлежал к той части интеллигенции, чей радикализм к осени не ослабел, не рассеялся, а лишь возрос. Думается, что осенью 1917-го он скорее нашел бы общий языке Блоком, чем с редакцией «Народоправства». Если до революции он втайне презирал либералов, в чьих изданиях сотрудничал, то теперь это презрение вырвалось наружу. Буржуазно-демократические идеалы были неприемлемы для поэта. Будущее страны рисовалось ему если не в большевистских, то в левоэсеровских тонах.
Наиболее четко это высказано в его письме Садовскому от 15 декабря 1917 года:
«Верю и знаю,что нынешняя лихорадка России на пользу. Но не России Рябушинских и Гучковых, а России Садовского и того Сидора, который является обладателем легендарной козы. Будет у нас честная трудоваястрана, страна умных людей, ибо умен только тот, кто трудится. И в конце концов монархист Садовской споется с двухнедельным большевиком Сидором, ибо оба они сидели на земле, — а Рябушинские в кафельном нужнике. Не беда, ежели Садовскому-сыну, праправнуку Лихутина, придется самому потаскать навоз. Только бы не был он европейским аршинником, культурным хамом, военно-промышленным вором. К черту буржуев, говорю я. Очень хорошо, если к идолу Садовского будут ходить пешком, усталыми ногами. Не беда, ежели и полущат у подножия сего истукана семечки. Но не хочу, чтобы вокруг него был разбит „сквер“ с фешенебельным бардаком под названием „Паризьен“ (вход только во фраках, презервативы бесплатно)» [357].
Это можно было бы счесть кратковременным и случайным настроением, если бы два года спустя, уже хорошо познакомившись с отрицательными сторонами большевистского правления, Ходасевич не повторил этих слов — почти в точности — в письме тому же Садовскому:
«Большевики поставили историю вверх ногами: наверху оказалось то, что было в самом низу, подвал стал чердаком, и перестройка снова пошла сверху: диктатура пролетариата. Если Вам не нравится диктатура помещиков и не нравится диктатура рабочего, то, извините, что же Вам будет по сердцу? Уж не диктатура ли бельэтажа? Меня от нее тошнит и рвет желчью. Я понимаю рабочего, я по какому-то, может быть, пойму дворянина, бездельника милостию Божиею, но рябушинскую сволочь, бездельника милостию собственного хамства, понять не смогу никогда. Пусть крепостное право, пусть Советы, но к черту Милюковых, Гучковых и прочую „демократическую“ погань. Дайте им волю — они „учредят“ республику, в которой президент Рябушинский будет пасти народы жезлом железным, си-речь аршином. К черту аршинников!.. Я понял бы Вас, если б Вы мечтали о реставрации. Поймите и Вы меня, в конце концов приверженного к Совдепии» [358].
На первый взгляд это кажется проявлением вульгарного ницшеанства и чуть ли не того «властепоклонничества», в котором Ходасевич упрекал Брюсова. Как иначе можно объяснить предпочтение «крепостного права» и «Советов», взятых вкупе — «демократической погани»? Но у Ходасевича были свои, индивидуальные мотивы для такого образа мыслей, связанные с его эстетической позицией.
Эти мотивы высказаны им в статье «О завтрашней поэзии», написанной уже после октябрьского переворота и напечатанной в эсеровской газете «Понедельник Власти народа» (2 февраля 1918 года). Краткая картина современной поэзии, которую дает Ходасевич, обычна для него: чрезвычайное преувеличение значения символистов и такая же радикальная недооценка собственного поколения, которому он приписывает «хилость мысли и чувства», прикрытую мастерством формы:
«Не хлебом насущным — пирожным стала молодая русская поэзия. Она приторна — и не питательна. Она румяна, ибо нарумянена. Она недолговечна.
Но когда в муке заводится моль, бескровное существо с бессильными крылышками, — мудрый хозяин пересыпает и ворошит весь мешок, до самого дна. Наш хозяин и делает это рукой революции. Вся Россия ныне перетряхается, пересыпается в новый мешок. Гигантская созидательная работа становится задачей завтрашнего дня. Эпохе критической предстоит смениться эпохой творческой.
В этой деятельной и бодрящей атмосфере русская поэзия от ее нынешних маленьких тем, от душного интимизма неизбежно должна обратиться к вечным, основным проблемам человеческого духа, должна снова стать необходимой для каждого, кто действительно ищет и мыслит; ее аудиторией снова станут все живые, а не „немногие утонченные“. Она станет народнойв истинном смысле слова. Она будет меньше говорить, но нужнее; печь хлебы, а не пирожное» [359].
Соблазн «больших тем» и «народности» вечен; в 1918 году трудно было предположить, как в недалеком будущем повлияет он на пути искусства. В тот момент Ходасевича могли привлекать аналогии из времен Великой французской революции (переход от вертлявого рококо к мощным композициям Жака Луи Давида). Мог он, знаток пушкинской эпохи, держать в уме и статью Вильгельма Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (1823) — перекличка с ней кажется очевидной:
«О да, увлекаясь предметами высокими, передавая векам подвиги героев и славу Отечества, воспаряя к престолу Неизреченного и пророчествуя пред благоговеющим народом, парит, гремит, блещет, порабощает слух и душу читателя. <…>
В элегии — новейшей и древней — стихотворец говорит об самом себе, об своих скорбях и наслаждениях. <…> Она только тогда занимательна, когда, подобно нищему, ей удастся (сколь жалкое предназначение!) вымолить, выплакать участие или когда свежестью, игривою пестротою цветов, которыми осыпает предмет свой, на миг приводит в забвение ничтожность его» [360].
Разумеется, Ходасевич понимал задачи поэзии шире, чем строгий Кюхельбекер: неслучайно в том же 1917 году им написана статья про «Гавриилиаду» — отзыв на ее первую полную публикацию в России (для чего потребовалась революция). Ходасевич видит в богохульной пушкинской поэме аналогию итальянской живописи эпохи Возрождения: «Кишиневские „рогачи“ и повесы так же служили моделями Пушкину, как венецианские куртизанки — Веронезу» [361]. В «Гавриилиаде» он видел «нежное сияние любви к миру, к земле», чуждое современным «утонченникам». Жизнелюбие «барина» Державина и «поклонника Вакха и Киприды» Пушкина для Ходасевича занимает законное место в народном, монументальном, всечеловеческом искусстве будущего, рядом с «вечными проблемами человеческого духа».
При «диктатуре бельэтажа» такое искусство, по мысли поэта, невозможно. Поиск того общественного устройства, при котором утопия осуществима, должен стать общим делом «всех живых» — правых и левых. Иначе и революция ни к чему. А большевики, по крайней мере, предлагают нечто принципиально новое, дающее хоть какую-то надежду.
Но даже если и революция сама по себе не откроет этого пути, она дарует ищущему бесценный по трагическому напряжению опыт — экзистенциальный опыт, как сказали бы полвека спустя: