О нас – наискосок
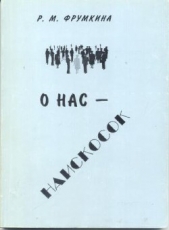
О нас – наискосок читать книгу онлайн
Сюжетообразующим стержнем мемуаров Ревекки Марковны Фрумкиной, ученого с мировым именем, основателя крупной исследовательской школы в лингвистике, были и остались занятия наукой. Занятия остро конфликтные, за которые приходилось расплачиваться дорого — здоровьем, потерей близких. Ей посчастливилось учиться у крупнейших лингвистов и математиков, участвовать в становлении математической лингвистики, опровергнуть свои же собственные результаты и написать книги, которые в Ленинке держали в открытом доступе, но в специальном шкафу, чтобы их не уворовывали читатели.
Драма, о которой пишет Р.М. Фрумкина, растянулась на многие десятилетия сороковых, пятидесятых, шестидесятых, семидесятых, достигла своего апогея в восьмидесятых годах и привела к развалу школ, утечке блестящих умов, личным катастрофам, разочарованиям и невосполнимым потерям. Ее отголоски различимы и сейчас в попытках разгрома факультета лингвистики РГГУ, собравшего в 1990-х разрозненные осколки научного сообщества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У Реформатского был несомненный дар рассказчика. Нам он рассказывал истории из своей молодости, которые имели вид законченных этюдов. Помню, как к Реформатскому приходили «русские девки» — т. е. молодые сотрудницы из Института русского языка. Они были моложе нас лет на 7 — 10 и эти истории еще не слышали. Мы с Игорем хором просили: «Александр Александрович, расскажите, как Сидоров кота раздавил!» А. А. некоторое время поглаживал бороду, как если бы собирался с мыслями, и хитро посверкивал глазами сбоку, из-под очков. Потом начинал, неторопливо и со вкусом.
Из истории про Сидорова и кота я почти дословно помню только концовку. Дело происходит на вечеринке. А. А. уединился на кухне с Надей Лурье: «А мы с Надькой Лурье там целовались. И вот только мы дошли до подробностей (произносилось как пандроб-ностей), тут в кухню — Володя Сидоров. Он от неожиданности — шмяк в кресло! А там — кот спал, большой такой. Кот — увяу! — и готов».
Прелесть этого рассказа была в том, что Владимир Николаевич Сидоров в представлении всех нас не стал бы целоваться с дамой на чужой кухне, а кроме того, был человеком, который, что называется, и мухи не обидит. А тут кота раздавил — и насмерть!
Не будучи религиозным, Реформатский некогда пел в церковном хоре и великолепно знал весь культурный пласт православного обихода, который большинству из нас тогда был вовсе неизвестен. Помню, как в Консерватории выступал американский студенческий хор «Оберлинер колледж». Я была под сильнейшим впечатлением от одного песнопения. Оно было исполнено на «бис», и я не расслышала имя композитора. На другой день я спросила об этом Реформатского, который тоже был на концерте. «Как, — сказал А. А., — вы не узнали хор Чеснокова?» Мне кажется, это было моим первым знакомством с православной хоровой музыкой: в конце пятидесятых негде было услышать ни «Всенощное бдение» Рахманинова, ни хоры Гречанинова. А о Чеснокове и говорить нечего.
Я помню Реформатского человеком пожилым, но крепким. В сезон он ездил на охоту, иногда играл в теннис. Постоянные разговоры о перспективе упокоиться на Ваганьковском были, как я теперь понимаю, естественным следствием его жизнелюбия. Во всяком случае, себя он не берег. Запомнился один эпизод, в высшей степени характерный для личности А. А. Мы с ним поехали в типографию «Литгазеты», где печаталась моя брошюра, с целью что-то уладить. Когда уладили, то оказалось, что огромный рулон типографской бумаги, нам предназначенный, некому перенести в другое помещение. А. А. сказал, что недаром он в юности подрабатывал грузчиком. Он присел, крякнул и, к моему ужасу, взвалил этот чудовищный вал на закорки и понес. Я онемела и дар речи обрела не скоро. А. А., прежде чем надеть свою неизменную кепку, долго вытирал лысину платком — но и только.
Надо ли говорить, что с таким Учителем нас миновала «проблема поколений» — не только в науке, но и в жизни. Неуступчивость в спорах, неумолимость к небрежностям — и одновременно доверительность, ласковость, даже нежность в письмах. Если А. А. уходил из сектора раньше нас, то обычно говорил: «Ну, дети мои, я кому-нибудь сейчас нужен? Нет? Тогда я пошел». Да, мы были «реформатские дети». Но в этой атмосфере тепла не было тепличности.
Конечно, до понимания личности Реформатского надо было долго расти. Понимание это, по обыкновению, приходит слишком поздно. Я думаю, однако, что это и есть особый дар исключительной личности — одаривая других, не впечатлять их своей необыкновенностью. Ведь это имел в виду Пастернак, написав:
Михаил Моисеевич Бонгард
Всем нам являлась традиция, всем обещала лицо, всем, по-разному, свое обещанье сдержала. Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить. Никогда, прикрывшись кличкой среды, не довольствовалась она сочиненным о ней сводным образом, но всегда отряжала к нам какое-нибудь из решительнейших своих исключений.
О его смерти я узнала случайно. Институт наш тогда помещался в старинном флигеле, в дворике около Музея изящных искусств. Трудно вообразить здание, менее приспособленное для работы. Зато стоял флигель в уютном дворе, зеленом и довольно тихом, с клумбой посередине. Вокруг клумбы — садовые скамейки. В теплое время года там и работали.
Во время одного обсуждения «на скамейке», в сентябре 1971 года, мой тогдашний ученик, Миша Мацковский, в ответ на мое замечание «Надо бы у Бонгарда (то есть в его книге) посмотреть» сказал: «Ревекка Марковна, вы, наверное, слышали, что Бонгард погиб на Кавказе?» Я не слышала. Кроме того, этого попросту не могло быть. Поэтому я как-то буднично заметила: «Этого не может быть». Обсуждение продолжалось.
Той же осенью пришел ко мне в гости мой друг Юлий Шрейдер, знавший Бонгарда еще по Московскому университету. Когда он сказал: «Вы, конечно, знаете, что Мика Бонгард погиб», то я спокойно ответила, что этого не может быть. Наверное, такой ответ прозвучал странно, потому что мой собеседник не стал настаивать.
Итак, этого быть не могло. Понадобилось десять лет, чтобы я поверила. А может быть, дело еще и в том, что через десять лет я впервые услышала рассказ Е. И. Тамма, друга М. М. Бонгарда, на глазах которого разыгралась эта трагедия. Конечно, я понимала, что Бонгарда нет в живых, но… Это странное состояние ума и души имело материальное выражение. В 1968 году я получила от М. М. Бонгарда письмо и положила его в средний ящик письменного стола, куда всегда складывала только что полученные письма. По мере того, как я на них отвечала, письма перекочевывали в архив. Письмо Бонгарда оставалось на том же месте.
У Бонгарда было много друзей, товарищей по работе, коллег. Я не входила в их число. По меркам нашего времени следовало бы сказать, что мы были бегло знакомы. С момента гибели М. М. Бонгарда прошло двадцать пять лет, но о нем никто еще не написал.
Как сказал Андрей Вознесенский:
Но ведь во второй строке поэта тем больше силы, чем меньше правды в первой. Нас никто не заменит в том смысле, что внутренний мир каждого участника духовного процесса неповторим. (Я не хочу сказать, что содержание этих миров одинаково интересно для потомков, но это уже иная тема.)
Я убеждена, например, что с уходом из жизни современников Юрия Трифонова будет крайне трудно постичь, как бесстрашно искренний человек мог написать в 1950 году «Студенты», а через четверть века фактически на том же материале создать трагический «Дом на набережной».
Наш внутренний мир — это своего рода сцена, где значимым для нас людям отведены свои роли. Кто-то для меня — главный герой, без него вообще невозможна драма жизни; кто-то другой — благородный отец; а вот и инженю; есть и лица, ждущие своей очереди в правой или левой кулисе. Не стоит ожидать от мемуариста, что он расскажет нам о том, как это было «на самом деле». У него другая задача: он должен высветить для нас свою внутреннюю сцену, заботясь лишь о том, чтобы ретроспективное изображение не слишком исказило некогда разыгрывавшийся спектакль. Если герой впоследствии оказался злодеем, то не стоит делать вид, что он никогда не был моим героем. Если те, кто в моих глазах воплощали могущественные силы, а в действительности были лишь марионетками, я солгу именно тогда, когда скажу, что своими глазами уже тогда видела веревочки.
Если не считать моих впечатлений от бурных кибернетических семинаров, где само присутствие Михаила Моисеевича Бонгарда определяло уровень и накал полемики, наше знакомство — это одна встреча, одно письмо, один телефонный разговор. И одна написанная им книга. Много это или мало? Тогда для меня это было очень много. Ссылки на его книгу есть в большинстве моих работ. Но я, разумеется, не могла предвидеть, в какой мере личность и взгляды М. М. Бонгарда повлияют на мою дальнейшую жизнь в науке и, более того, вообще на мои убеждения.


























