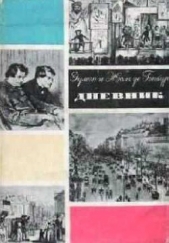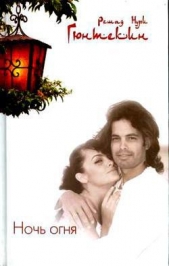Дневник. Том 2

Дневник. Том 2 читать книгу онлайн
Авторами "Дневников" являются братья Эдмон и Жюль Гонкур. Гонкур (Goncourt), братья Эдмон Луи Антуан (1822–1896) и Жюль Альфред Юо (1830–1870) — французские писатели, составившие один из самых замечательных творческих союзов в истории литературы и прославившиеся как романисты, историки, художественные критики и мемуаристы. Их имя было присвоено Академии и премии, основателем которой стал старший из братьев. Записки Гонкуров (Journal des Goncours, 1887–1896; рус. перевод 1964 под названием Дневник) — одна из самых знаменитых хроник литературной жизни, которую братья начали в 1851, а Эдмон продолжал вплоть до своей кончины (1896). "Дневник" братьев Гонкуров - явление примечательное. Уже давно он завоевал репутацию интереснейшего документального памятника эпохи и талантливого литературного произведения. Наполненный огромным историко-культурным материалом, "Дневник" Гонкуров вместе с тем не мемуары в обычном смысле. Это отнюдь не отстоявшиеся, обработанные воспоминания, лишь вложенные в условную дневниковую форму, а живые свидетельства современников об их эпохе, почти синхронная запись еще не успевших остыть, свежих впечатлений, жизненных наблюдений, встреч, разговоров.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
жареный цыпленок. За столом сидят Банвиль, его жена и сын,
Даллоз, Сен-Виктор, госпожа Жюльетта Друэ и жена Шарля
212
Гюго между своими детьми * — бесенком-девочкой и кротким
мальчиком с красивыми бархатистыми глазами.
Гюго в ударе. Он ведет разговор в добродушном и приятном
тоне и сам увлекается тем, что рассказывает, время от времени
прерывая свою речь двойными раскатами звонкого смеха. «Под
линная ненависть, — говорит он, — существует только в обла
сти литературы. Ненависть в области политики — ничто. В идеи
этого рода люди не вкладывают такой убежденности, как в ли
тературные доктрины, которые являются одновременно и созна
тельно принятым credo 1, и порождением темперамента». Но тут
он сам перебивает себя и замечает: «Впрочем, нас в этой ком
нате пятеро, и наши убеждения совершенно различны; а все же
я уверен, что мы относимся друг к другу лучше, чем Эмманюэль
Араго — ко мне!»
Затем Гюго говорит об Академии. Он набрасывает красоч
ный и остроумный портрет Руайе-Коллара:
— Взгляд очень хитрый, лукавый, прячущийся под зарос
лями густых бровей; нижняя часть лица тонет в шейном платке,
иной раз доходящем почти до носа; длинный сюртук времен
Директории, застегнутый до подбородка; и всегда — скрещен
ные руки и откинутая назад голова.
Он объявил мне, что читал мои книги, что одни ему нра
вятся, другие нет, но что он не будет голосовать за меня, по
тому что я своим появлением создал бы температуру, которая
изменила бы климат Академии...
Признаться, я любил бывать в Академии. Заседания, посвя
щенные словарю, были мне интересны. Я влюблен в этимоло
гию, зачарован таинственностью таких слов, как «сослагатель
ное наклонение» и «причастие»... Я часто приходил туда, и
как раз напротив меня, за столом, вот как сейчас вы, господин
Гонкур, сидел Руайе-Коллар...
Надо вам сказать, что со времени моего появления в Акаде
мии Кузен, не знаю уж почему, занял позицию моего антаго
ниста. Как-то раз обсуждается слово «Intempéries» 2. Задается
вопрос: «Этимология?» Кто-то отвечает: «Intemperies»... 3 «Гос
пода, — восклицает Кузен, — мы должны проявить некоторую
сдержанность в выборе слов, которые мы имеем честь освя
щать своим авторитетом; «Intemperies» — не латынь: этого
слова нет ни у одного хорошего латинского автора, — это кухон
ная латынь». Все молчат, и тогда я спокойно говорю: «Intempe-
1 Символом веры ( лат. ) .
2 Ненастье ( франц. ) .
3 Ненастье ( лат. ) .
213
ries» — и поясняю: «Тацит!» — «Пусть Тацит, но это же не ла
тинский язык! — снова заявляет Кузен. — Такая латынь годна
лишь для романтизма! Не правда ли, Патен, вы-то знаете ла
тынь? Ведь Тацит пишет не на латинском языке?» Но прежде
чем Патен успел что-нибудь вымолвить, из-за широченного
шейного платка Руайе-Коллара послышалось — гнусаво, с пре-
зрительно-насмешливой интонацией: «Господа, Кузен и Па-
тен — знатоки латыни и оберегают святыни!» Это вызвало
смех, и предложенная этимология была принята.
В другой раз обсуждалось какое-то другое слово... К сожа
лению, не припомню, какое именно... Нет, нет, никак не вспом
нить... Кузен объявил, что это слово не французское. Тут воца
рилось молчание, посреди которого я сказал: «Господин Пен-
гар, будьте добры спуститься в библиотеку и принести мне
третий том Реньяра». А когда книга была принесена, я прочел
нужное слово в одной из фраз «Путешествия в Лапландию» *.
Не надо считать меня более ученым, чем это есть на самом деле.
За несколько дней перед тем мне довелось просмотреть этот том
в связи с одной из моих работ... Кузен тотчас же раскричался:
«Можно ли полагать за основание для принятия слова то, что
оно приткнулось где-то на задворках сочинений хорошего ав
тора?» Из-за огромного шейного платка вновь послышалось:
«У хороших авторов нет задворок, нет задворок!» Нет, я любил
Руайе-Коллара; не любил я там двоих — Кузена и Гизо.
В столовой — низкий потолок, и свисающая с него газовая
лампа обдает таким жаром, что плавятся мозги. Жена Шарля
Гюго говорит мне, что у ее сына от перегрева очень часто бы
вает сильное сердцебиение и острая головная боль, из-за чего
она всегда старается быть возле него. И вот под этим освети
тельным прибором, вызывающим мигрень, Гюго продолжает
пить шампанское и говорить, словно его могучему организму
совершенно нипочем все то, чего не могут вынести обычные
люди.
Даллоз, с присущей ему бестактностью, принялся весьма
глупо рассуждать о психологических нововведениях, которыми
театр обязан Дюма-сыну. Тут взорвался Банвиль и пронзитель
ным и резким голосом потребовал указать ему что-либо в этих
нововведениях, чего нет у Бальзака... И вслед за Банвилем все
нападают на беднягу — поклонника Дюма!
Начавшись с Дюма-сына, разговор переходит на Дюма-отца,
и Гюго сообщает, что он только что прочитал подлинные
«Записки д'Артаньяна» *. В связи с этим он заявляет, что, не
придерживайся он твердого правила — ничего не брать у других,
214
он, всегда успешно сопротивляющийся соблазнам такого рода, но
мог бы противостоять искушению заимствовать и облечь в худо
жественную форму один эпизод, не использованный Дюма-от-
цом. И он принялся увлекательно рассказывать, явно забав
ляясь довольно скользким сюжетом, историю несчастной гор
ничной, которую д'Артаньян сделал посредницей в своей ин
трижке с миледи, угрожая оставить ее навсегда, если она не
добьется от своей госпожи, чтобы та прочла его письма, и снова
угрожая ей тем же, если она не добьется, чтобы та на них от
ветила... «А какая замечательная, человеческая развязка! —
вскричал он. — Развязка, несравненно превосходящая все раз
вязки теперешнего реализма! Горничная, вынужденная поко
риться, добивается у своей госпожи согласия на свидание с
д'Артаньяном. Но когда настает время этого свидания, накопив
шаяся обида вдруг вызывает у бедной жертвы яростную жажду
мести, и она оставляет д'Артаньяна — а дело было зимой — на
целые сутки без огня, без еды, в насквозь промерзшей комнате,
и когда д'Артаньян, выйдя наконец оттуда, попадает к миледи,
та сначала принимает его в свои объятия, а затем пинком вы
кидывает из постели».
Встаем из-за стола. Мы с Банвилем выходим покурить на
лестницу, получив обещание хозяина, что в скором времени у
него будет специальная комната для курения. Возвратясь, мы
находим Гюго в столовой одного, он стоит перед столом, заня
тый подготовкой к чтению стихов; в этой подготовке заме
чается что-то сходное с упражнениями фокусника, пробующего
перед сеансом где-нибудь в уголке свои приемы.
И вот мы в гостиной; Гюго стоит, прислонившись к камину
и держа в руке большой лист беловой копии своих островных
сочинений, — отрывок из рукописей, завещанных Национальной
библиотеке и написанных, по его словам, на особо прочной бу
маге, чтобы обеспечить их сохранность. Затем он медленно на
девает очки, которые из своего рода кокетства много лет из
бегал носить, долго и как бы рассеянно вытирает носовым плат
ком со лба пот, капли которого блестят на его вздутых жилах.
Наконец он начинает, роняя в качестве вступления слова, как
бы предупреждающие нас, что он держит в голове еще целые
миры: «Господа, мне семьдесят четыре года, и я только начи
наю свою деятельность». Он читает нам «Пощечину отца» * —
продолжение «Легенды веков», где имеются прекрасные сверх