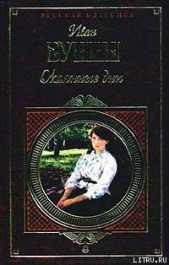Рахманинов

Рахманинов читать книгу онлайн
Книга посвящена Рахманинову Сергею Васильевичу (1873–1943) — выдающемуся российскому композитору, пианисту, дирижеру.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Рахманинов на этот раз верил, что именно в «Колоколах», грандиознейшей и, быть может, сложнейшей партитуре своего времени, его творческие способности нашли, наконец, свое полное выражение. В первую встречу с Ре в Москве он только о «Колоколах» и говорил.
Поэтому композитора несколько озадачило то, что новые друзья отнеслись к его работе если не равнодушно, то несколько рассеянно. Это насторожило Рахманинова. Он не согласился проиграть поэму ни у Ре, ни у Метнеров. В «мефистофелевском», как он выражался, присутствии философа Эмилия Карловича он всегда чувствовал себя крайне неуютно.
Но от него не ускользнуло, как и сам Николай Карлович в разговоре упомянул о том, что поэма По с ее «колокольчиками» и «колоколами» кажется ему несколько манерной. Рахманинов вдруг вовсе замолчал о «Колоколах», словно их не было.
Приоритет исполнения поэмы на этот раз перехватил Зилоти для своих концертов. По его вызову Рахманинов в конце ноября выезжал в Петербург.
В первом, камерном, концерте он играл свои фортепьянные пьесы — Вторую сонату, транскрипцию «Сирени», этюды-картины и прелюдии.
Вторая соната очень мрачная, суровая, «ночная». Ее жесткие созвучия вызывают ассоциацию с полуночным боем курантов в покинутом доме, с тютчевской «Бессонницей».
Публика была слегка озадачена. В то же время соната заслужила неожиданно сочувственный отзыв со стороны наиболее заклятого врага — Каратыгина.
Совсем другой была атмосфера в симфоническом тридцатого ноября. Это далеко превзошло то, что бывало когда-то на концертах Чайковского в Петербурге.
Но бушующий зал не ввел в заблуждение автора. То, что эти люди словно лишились рассудка, вовсе не доказывает, что они прониклись величием его замысла. Сама форма, в которой вошла в зал его «колокольная» симфония, — поэма, огромный хор и оркестр Мариинского театра, а может быть, и он сам за дирижерским пультом, непроницаемый, властный, суровый, — все вместе взятое не могло не потрясти их воображения.
Однако спокойнее и увереннее он стал дожидаться московского дебюта.
Генеральная репетиция была назначена на утро шестого февраля 1914 года. Бушевала метель. Выбеленные инеем стекла сеяли в зал скупой и равнодушный свет. Под потолком горела только одна люстра.
Выйдя на эстраду, Рахманинов сразу увидел единственное пустующее кресло, предназначенное Эмилию Метнеру. Философ явился только к началу второй части.
После репетиции москвичи, как обычно, двинулись в артистическую поздравлять автора. Но ни Метнеры, ни Ре не пришли. Николай Карлович спешил домой. При выходе он заметил, что в «Колоколах» его больше всего поразила красота, настоящее излияние красоты».
Ре, глубоко взволнованная, подумала, что сказать только о красоте музыки, которую они только что слышали, значило ничего не сказать.
Восьмого февраля в Москве стоял лютый мороз. На улицах неподвижно повис голубой туман. В тумане над кровлями садилось малиновое солнце. Когда Рахманинов ехал в Благородное собрание, на Театральной площади горели костры.
…Повернувшись к оркестру, он с минуту стоял, низко наклонив коротко остриженную голову.
Толпа притихла под сенью огромных электрических люстр.
Казалось, оттуда, с морозных, одетых инеем улиц и площадей, эта песня влетела в нарядный, ярко освещенный зал и понесла на крыльях в неоглядную снежную даль.
Как свежа, как молода была эта первая часть! Но всем показалось, что слишком коротка!..
А затем полился свежий, серебристого тембра голос молодой солистки Большого театра Елены Андреевны Степановой.
Она парила, эта песня, над волнами хоровых, колокольных и оркестровых масс. Сквозь спокойный воздух ночи, Видно, блещут чьи-то очи…
И тем неожиданнее после этой ночи золотого звона и тихих лучистых звезд человеческого счастия был медный ад набата. В нем с первых же мгновений как бы захлебнулась оттаявшая душа. Люстры вдруг померкли, кровавые отблески пожара замерцали по сводам, сталкиваясь, настигая и опрокидывая друг друга, в злобе и гневе, в тоске и отчаянии метались звуковые громады.
И, словно неотвратимый итог борьбы, страстей и желаний, после короткой паузы раздался звук железного колокола — равнодушный, пустой, холодный. Удары его падали один за другим, медленной гулкой раскачкой отдаваясь в измученных сердцах.
Хотелось крикнуть: «Остановись, помедли!» Нет, еще…
И вдруг среди наступившей тишины послышался нежный звон арф, запели кларнеты, и вот медленно поднялась и поплыла мелодия виолончелей, теплая, нежная, неповторимая рахманиновская в каждой своей интонации, заливая весь этот черный мир волнами яркого света. И сумрачный образ смерти, поникнув крыльями, отступил в тень.
Много лет спустя взволнованно вспоминал о Рахманинове-дирижере известный русский журналист и критик Влас Дорошевич:
«…Когда в оркестре возникала нежная, прекрасная мелодия, жесты Рахманинова становились такими, словно он нес через оркестр что-то бесценное. Невероятно дорогое и страшно хрупкое. Ребенка ли, хрустальную ли вазу необычайной ювелирной работы или до краев наполненный бокал драгоценнейшего напитка… Вот-вот толкнет его какой-нибудь неуклюжий контрабас или зацепит длинный фагот — и драгоценная ноша упадет и разобьется. Нет границ прекрасному в жизни, и осторожность может быть выражена в формах идеально прекрасных…»
Все поднялись со своих мест, встал и оркестр.
И тут произошло нечто еще небывалое.
Три человека медленно поднялись на эстраду, бережно неся чей-то дар.
С крестовины, прикрепленной к подставке, свисали, качаясь, гирлянды колокольчиков и колоколов, словно изваянных из плотной массы цветов белой сирени.
Под гром пришедшего в неистовство зала молча стоял виновник торжества. И на лице, обычно замкнутом, суровом, почти надменном, появилась смущенная, даже растерянная улыбка.
Опустив палочку, он беспомощно развел руками и глянул в колышущееся вокруг эстрады море взволнованных лиц, глаз и рук, протянутых к нему с цветами.
Он не знал, что и она, неведомая ему «Белая сирень», там, среди них, глядит на него, смеясь и радуясь его радости и смущению.
Глава восьмая УТРАТЫ